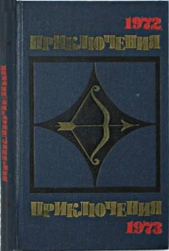Приключения-75

Приключения-75 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он был человек темный, почти неграмотный; рабочий и неумелый вор, с тусклой и невыразительной кличкой — Фоня. Воровством он занимался с детства. Однако к преступной жизни его влекла не врожденная порочность, как можно было бы думать, а как раз те черты характера, которые ценятся в других людях: прилежание, послушание и скромность. Послушание заставляло его беспрекословно подчиняться наставлениям родителей, старых рецидивистов; скромность мирила его с бедной и скучной жизнью мелкого вора; отсутствие фантазии и какого-либо представления о другой, не воровской жизни удерживало его от поисков честной дороги. Родителей его выслали, общество профессионалов распалось, и он остался вором-недоучкой, забытым угрозыском, прозябающим в бедности и одиночестве.
Как всякий плохой вор, он не имел специальности; он мог влезть в окно, очистить курятник, забраться в карман, раздеть пьяного, утащить с воза кнут. Он не гнушался даже работой «на цып»: следил за какой-нибудь лавкой и, заметив, что продавец ушел в заднюю комнату, подкрадывался на цыпочках внутрь, хватал с прилавка первый попавшийся предмет — кусок колбасы, мыло или даже просто гирю — и так же тихо, на цыпочках, выходил на улицу. Опытные воры презирали работу «на цып» и если в трудную минуту занимались ею, то никогда не признавались друг другу в этом.
Фоня жил на краю города, у старой, глухой бабки, бывшей самогонщицы; ни с кем не встречался, ни о чем не задумывался, ничего не знал о жизни. К сожалению, и в тюрьме благодаря своей незначительности он остался как-то в тени; его не заметили, не занялись им по-настоящему. Он просидел только три недели и не успел вынести из тюрьмы ничего, кроме двух новых стальных зубов и начатков знания игры на домре.
Однако в тюрьме он наслушался разговоров о Москве, и здесь у него зародилась мысль о поездке в столицу. Он выпросил у бабки денег на билет и отправился в дорогу.
Москва его разочаровала: холод, дождь, суета и милиционеры в невиданном количестве. Все, что он мог здесь украсть, было слишком крупно, ценно и доброкачественно. Его глаз и рука не привыкли к предметам, которые его здесь окружали, и плохо повиновались. С самого утра он пытался что-нибудь украсть, но безуспешно. Возможностей было сколько угодно, но он их упускал. В одном магазине какая-то женщина, расплачиваясь у кассы, сама дала подержать ему новый патефон, но, привыкнув к добыче, которую он находил в деревенских сараях, курятниках и погребах, Фоня не решился унести эту вещь. Случайно он попал на большой рынок, где торговали старыми вещами, и почувствовал себя увереннее, но вдруг явственно ощутил, что чья-то рука обшарила его карманы. Он был так испуган и взволнован, что поспешил покинуть рынок, не догадываясь о природе этого чувства, которое было не чем иным, как пробудившимся на секунду инстинктом собственника.
Между тем что-нибудь украсть было совершенно необходимо, ибо от аванса старой бабки не осталось ни гроша и он был голоден. Лишь под вечер ему удалось украсть у мальчика на бульваре игрушку «три свинки» — плоскую коробочку с маленькими свиными тушками под стеклянной крышкой. Но этот предмет был бесполезен...
Фоня ходил по улицам весь день. Он был бродягой и привык к невзгодам; но он был южным бродягой и потому страдал от холода. Невидимый московский дождик промочил его до костей. Он потерял надежду украсть что-либо и уже только мечтал об убежище, где мог бы обсохнуть и согреться.
Так он забрел в метро.
Как только Фоня появился на станции метро, дежурный милиционер устремил на него пристальный взгляд. Он смотрел на него с молчаливой корректностью, свойственной подземным милиционерам, решая, по-видимому, вопрос, совместимо ли пребывание Фони в вестибюле с правилами пользования Московским метрополитеном.
Москвичи знают, что молчаливость отличает милиционеров метро от всех прочих милиционеров — от словоохотливых орудовцев, непрерывно расшаркивающихся и козыряющих направо и налево, от голосистых речных милиционеров, бороздящих водные просторы на оглушительно ревущих моторных лодках. Подземные милиционеры не жестикулируют, не свистят. Охрана входа в туннели предрасполагает к созерцательности. Они не кричат, как на реке, не размахивают руками, как на перекрестке. Они стоят и думают о чем-то своем, милицейском, и, если в поле их зрения случается какой-нибудь непорядок, обычно бывает достаточно их неторопливого приближения, чтобы все уладилось само собой.
В течение двух часов милиционер пристально разглядывал Фоню. Пока Фоня находился среди франтов, он превозмогал страх перед этим неподвижным взглядом. Мысль о холоде и дожде приковывала его к месту. Но когда девушки увели всех, кто был вокруг, и он остался наедине с милиционером, то не выдержал и бросился к выходу.
На улице его встретил тот же дождь. Стало еще холоднее. Было около десяти часов вечера. Фоня снова зашагал по улицам, не обращая внимания на витрины магазинов, на неоновые вензеля, на двухэтажные троллейбусы и подметальные машины; равнодушный к чудесам большого города, он ничего не замечал и ничему не удивлялся, хотя ноги его сегодня впервые ступали по асфальту.
Он шел все вперед и вперед, мелкой воровской походочкой, по которой опытные агенты узнают вора за сто шагов, шел, подняв воротник, втянув голову в плечи, согревая руки под мышками, не сворачивая ни направо, ни налево и разглядывая только то, что оказывалось под ногами, — лужи, под-воротные тумбы, бордюры тротуаров, трамвайные пути. Из-под нахлобученной кепки был виден кончик носа и куски посиневших щек. Очарование этого вечера не коснулось его, светящийся туман не золотил одежды, как будто он гасил фонари, мимо которых проходил.
Со всех сторон его окружали те, кого он причислял вместе с огромным большинством человечества к категории «потерпевших». Они были тепло одеты, сыты, довольны и знали, куда идут. Они вышли из домов и шли в дома. Их жизнь была легка. Они никого не боялись. Им никто не угрожал, кроме Фони. Фоня же боялся всех, и все ему угрожали. Самый бедный из них был богаче, чем он; самый несчастный — счастливее; самый ничтожный — значительнее. Но он не думал об этом, не жаловался, не спрашивал себя, почему только он обречен на жизнь, полную страха и лишений; почему среди всей массы спокойных и довольных людей, которых он называл потерпевшими, только на его долю выпал труд такой тяжелый, неблагодарный и опасный. Подобные мысли не приходили ему в голову. Его ум регистрировал только физические ощущения: замерзли пальцы, промокли ноги, бурлит в животе. Он ничего не знал о причинах своего несчастья; он понимал в них столько же, сколько понимает в случившейся беде дождевой червь, которого окуривают табачным дымом. У него теперь была одна надежда, одно желание: чтобы поскорее погасли огни в окнах, чтобы поскорее пришла испытанная союзница — ночь.
По случаю выставки картин Рембрандта Музей изобразительных искусств охранялся особенно тщательно. Впрочем, и в обычное время никакой злоумышленник — будь то искуснейший взломщик с европейской славой, будь то одухотворенный маньяк, похититель картин, — не смог бы проникнуть сквозь двойную цепь охраны, круглые сутки дежурившей снаружи музея и внутри, сквозь массивные решетки и тяжелые двери, надежно замыкавшие все входы и выходы, и, наконец, сквозь недавно устроенную систему фотоэлементов, от бдительности которых не могла бы ускользнуть и мышь.
В эту ночь на посту наружной охраны дежурил пожилой милиционер Сафронов. Он бодро расхаживал взад и вперед перед главным фасадом и вдоль боковых крыльев, притопывая, пританцовывая и похлопывая рукавицей о рукавицу — не столько, впрочем, от холода, сколько от хорошего настроения и от избытка сил.
Сафронов был доволен своей жизнью и положением. Он был женат, но бездетен; жалованье, правда, получал маленькое, но зато имел казенное обмундирование и квартиру почти даром. А жена, ткачиха, зарабатывала втрое больше его. Сафронов жил спокойно, чисто, привык к комфорту, к стенным шкафам, к газовой колонке, к диетической столовой; брил бороду ежедневно, а затылок — через день; любил музей; уважал искусства и, закаленный дежурствами на свежем воздухе, не знал болезней. Сегодня он испытывал особое чувство благополучия и довольства жизнью, в основе которого, как это часто бывает, лежал факт совершенно незначительный: новые черные валенки с калошами, полученные утром в цейхгаузе.