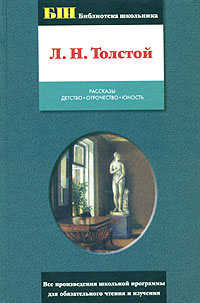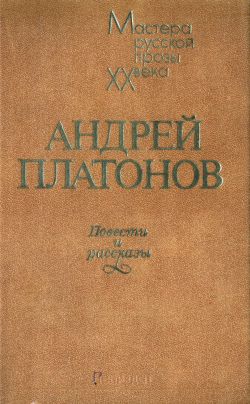За борами за дремучими
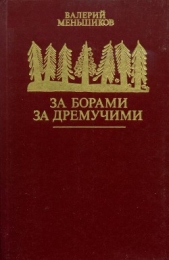
За борами за дремучими читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Анисья выходит на крылечко, сияет зареченским солнышком, разудалость Колюни ей не в диковинку, да и чего гореванить.
— Охлынь, отец, — улыбается она. — А то ишь как разбушевался.
Она подносит ему кринку пахнущей подполом бражки. Бражка, как и Колюня, не может успокоиться, пузырится, шипит, готова сплеснуться, но Колюня бережно принимает запотевшую стеклянную кринку в широкие ладони, осторожно пьет через край, легкими выдохами отгоняя от губ пену.
— Занозистая, чертовка! Может, Валерко, охолонешь горло, повеселишь кровушку?
— Еще чего надумал! Мальца к зелью приваживать. — Анисья принимает из его рук наполовину опорожненную посудину, и вот уже втроем сидим мы на теплой плахе, умиротворенные вечерним покоем, предчувствие чего-то хорошего тревожит и волнует нас. Хмель ударяет Колюне в голову, по лицу расплескивается краснота, на лысине бисерится пот, он закрывает глаза, наверное, прислушивается к тому, что происходит с ним, а может, готовит себя к новой песне.
И тут подает голос Анисья. Как бы и не поет еще, а только почти беззвучно размыкает губы. Мне кажется, что иду я неслышно по мягкому листопаду, откуда-то издалека призывно зовет меня родничок. С каждым шагом его журчание становится отчетливей, громче, и вот он уже где-то рядом, вызванивает в полную силу. И эти звуки оживляют дремавший баян.
Ах, Анисья, Анисья, ласковая душа. Ей не надо долго настраиваться на песню. Она и в жизни всегда что-то мурлычет, как обогретый материнским теплом котенок, живет в песне. А может, песня живет в ней — какая разница. Главное, что Анисья и песня едины, а потому так красивы.
Голос ее легко и напевно катится вровень с мелодией, не торопится оказать свою скрытую силу, а чуткие пальцы Колюни невесомым касанием кнопок сдерживают взрывную силу баяна.
Вызванивает лесной непоседа-родничок, пора, пора прибиться его светлым струям к темноликой речной воде. И Колюня не выдерживает: глубже утопают блестящие кнопочки, ярче полыхает пламя мехов. Обкатистый голос Колюни, как на упругих крыльях, каждое выстраданное Аксиньей слово поднимает на нужную ему высоту:
Я, не выдержав, подхватываю знакомый мне припев и, опьяненный слитностью, родством наших голосов, не замечаю своих слез. Ах, Колюня, ах, Анисья, как дороги вы мне, как слились воедино с моим сердцем. А песня поднимается над подворьем, улетает за огороды, за деревянный мосток на речке.
Притомился, замолк баян, прилипла мокрая прядь к Колюниному лбу, а песне умирать неохота, качается отголосками над свежезелеными зареченскими борами, над будущим Колюниным кладбищем, никак не угомонится…
Растревожили наши песни поселок. Кажется, и завод притих — беспричинное веселье всем в удивление. Оно и понятно. Где гармонь, там всегда праздник. А какой праздник без гостей, без задушевного разговора. Первым обычно протискивается в калитку обезноживший на войне Иван Арефьев, как бы нехотя расправляет широченные плечи, его грудь отзывается звоном медалей. Он подмигивает мне и Колюне.
— Ты как голос свой подал, в моей контуженной башке сразу просветление наступило. Добродило, думаю, дурман-питье. А чего ему киснуть? Хмелю по осени нащиплем, ты не горюй, Анисья!
А Анисья и не горюет, не сжимает скобочкой губы. Рада не рада, никому этого не скажет, не остудит гостя неприветливым словом. Наоборот, привечает улыбкой любого заглянувшего фронтовика.
Поскрипывает калиточка, не дают ей покоя.
— Знакомые все лица, — улыбается сквозь пшеничные усы Иван Иванов — Три Ивана. — Меня хозяйка весь день мытарит: то сделай, это, а сейчас занарядила воду в баню таскать. Я у колодца ведра оставил, через прясло перенырнул и сюда, на разведку.
— Год уж, как война кончилась, а ты все еще с бабой воюешь, — приветствует его Колюня, — отощал ведь, портки не держатся.
— Да гож, гож пока… Мы ведь с тобой погодки.
— Э, года не сосенки в лесу, к чему их считать. Сколько есть, все мои. Верно, Анисья?
— Верно, верно…
— Я еще кое-кого под хрип возьму и через куст переброшу, — бахвалится Колюня. — Не гляди, что мослатый. Драчливый петух жирен не бывает.
— Морду тебе досыта никто не бил, вот и хорохоришься, а то бы выглядывал, как сыч из-за кучи.
— Ничего, я из-под любого змеей вывернусь, меня не ущипнешь. Меня разве что колуном можно из строя вывести.
— Смотри, чтобы пупок не развязался. Уложу вот спать, кровать-то быстро тебя распохмелит, к ночи и посвежеешь…
Я касаюсь ладонью Анисьиного плеча. Перебранка их незлобивая, но она меня задевает. Между хорошими близкими людьми все должно и идти по-хорошему. А пьяный завсегда, что дитя, городит не свое, не наше. Чего уж тут обижаться.
— У баб на мужика своя философия, — хлебнув бражки, замечает Три Ивана. — Первое, чтобы ее любил. Второе, чтобы верным был. А третье: на руках носил, да во всем подчинялся. В общем, кабала голимая, никакого просвета…
— Здорово ночевали, — еще от калитки кричит Вено Таракан. И с ходу встревает в разговор. — А я живу, пока бабы любят. А как холодком на меня повеет, сам себя в землю и закопаю. Пустоцвет кому нужен.
Говорливому Вене мужики рады, да и Анисья расцветает маковым цветом.
— Присаживайся, Вениамин Степанович. Я сейчас груздочков достану.
Жалеет она его по-бабьи, печально смотрит на повисший тряпкой пустой рукав. Вено цепко за горло прихватывает кринку, цедит сквозь зубы пенящийся напиток.
— Ты не сиротскими каплями принимай, а от души пей, — поощряют его компаньоны и тут же подначивают: — Вроде с фронта пришел, во рту нерастрелянная обойма была, а сейчас брешь появилась.
— Так это Нюрка моя, кукла чертова. Прибегает на конюховку, а я в стойле, в обнимку с Серком отдыхаю. С утра-то хватил изрядно. Ну и приветила чем-то. Видно, для профилактики, чтобы не кусался. Ну да ничего, зуб — потеря небольшая. Прикажу — новый вырастет.
Он неожиданно кадрит на плахе сапогами, звонким голосом выводит припевку:
— Эх, други вы мои дорогие, не могу до сих пор воздухом нашим надышаться. Утром выйду во двор, голову обносит. Четыре года на войне отходил, руку… руку вот там оставил…
Не простой Вено человек, с переживаниями. На людях всегда балагурит, запрятав глубоко свою боль, а сейчас ненароком выплеснулась она наружу. И я примечаю, как разом посерело его лицо, а глаза подплыли слезами. И сам я готов уткнуться в его покалеченную грудь.
— Тяжело, мужики, ох как тяжело. — Вено уже не скрывает своих слез. — Что мне теперь, однокрылому, век на конюховке отираться, за лошадями катыши собирать? А ведь моим рукам — так комбат говорил — цены нет. — Он растопыривает ладонь, показывая всем длинные нервные пальцы. — Я ими под землей любую мину чувствовал…
— Ты погоди, погоди, Степаныч, — успокаивает его Три Ивана, — твоя слеза мне понятна. Жизнь дарит не только радости, но и печали. Но ведь живой возвратился, и это главное. Будь судьбе благодарен. Другие вон по всей земле рассеяны, кто за них вдовам да ребятишкам слезы утрет? Кто прижалеет? А ты такую войну выстрадал. Задарма, что ли, награды носишь. И не раскисай, а расправь грудь, ходи победителем. Пускай покалеченный, но для детей — отец, а дому — хозяин.