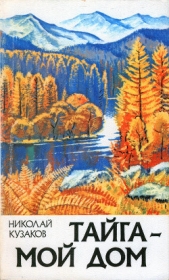Планета–тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю

Планета–тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю читать книгу онлайн
Северный край стал второй родиной писателя–натуралиста А. Онегова. Несколько лет он прожил в заонежской тайге вместе с рыбаками, охотниками, пастухами, вел наблюдения и писал рассказы о заброшенных лесных деревушках, прозрачных озерах, но больше всего о животных — своих четвероногих и пернатых соседях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Долгое молчание лесных старателей казалось мне сначала чуть ли не ограниченностью, неумением связать двух слов, но потом мне становилось стыдно, когда мысли Ивана Михайловича, Василия, дедки Степанушки в некоторой степени открывались для меня. Ни один из этих людей все‑таки никогда не молчал в лесу. Они или пели про себя, или думали о будущем, или вспоминали прошлое и только самое теплое из прожитого, или хранили в памяти что‑то увиденное, чтобы рассказать другим. С такими лесными людьми было интересно, их всегда хотелось увидеть, чтобы послушать новые истории, новые сказки. И пусть не каждый из них мог рассказать о сойках или лебедях, пусть Василий Герасимов чаще приносил из леса ехидные припевки и очередные розыгрыши, но каждый из этих лесных старателей по–своему подтверждал ту истину, что молчание порой действительно золото…
Я вспоминаю сейчас историю, принесенную из леса, в ней нет ничего хитрого, речь шла лишь о лосе, о белой лилии и о простом таежном ручье, по которому человек, внешне далекий от доброго сказочника, ездил каждый день ловить рыбу… Лось на таежном ручье — явление обычное, туда он спускается побродить по воде в светлые летние ночи, там отыскивает листья и бутоны кувшинок, и там, в этом ручье, росла большая белая лилия. Ничего необычного не было и в том, что белый цвет был известен человеку как цвет верности — лебеди у нас считаются самыми верными птицами, и цвет лебяжьего крыла всегда переносится на белый огонь, которым должны светить как хорошо выбеленная рубаха, сшитая руками любящей жены, так и ясное вечернее облачко, предвещающее верную, устойчивую погоду. Но необычность рассказа начиналась с того, что лилию заметил занятый лесной работой человек, заметил сначала между прочим, как сигнал к тому, что скоро, вслед за цветением лилий, широко пойдут стаи окуней. Рыбак встретил рыбу, но оставил лилию в памяти. Позже он не раз замечал за собой, что его все время тянет в ручей… Лилия продолжала оставаться на месте. Наконец лилия стала по–настоящему дорога, и, если бы человек захотел, он, наверное, мог бы поведать о простом цветке очень многое. Наверное, это была бы интересная новелла, где рядом с цветом таежной воды и белыми лепестками лилии обязательно ожили бы и старое осиновое весло, и сам внешне неинтересный, но с трудной судьбой рассказчик… Но у рыбака, к сожалению, не было времени поведать о своих переживаниях. Сбрасывая сапоги и расстилая на печи мокрый ватник, он сообщил о белой лилии так: «Лосей в ручье теперь, что телушек в стаде, перемешали весь до земли. Листья все пожрали, цветок один был, да и тот извели. А красивый был цветок…» — пришедшая после нелегкой дороги грубость в словах вдруг исчезла, человек преобразился и как‑то особенно грустно, будто вспоминая потерянное им самим что‑то большое, окончил: «Берег ее, да не уберег — разве с такой силищей, как у лося, совладеешь…»
Прав ли я был тогда, узнав в словах рассказчика нотки грусти по чему‑то более весомому, чем обычный цветок белой лилии, но мне очень казалось, что человек на глухом таежном ручье вспоминал себя, потерявшего однажды за временной разлукой очень любимого человека. Может быть, я и был прав в своих суждениях, зная историю рассказчика и умение моих друзей видеть порой незаметные, но много говорящие детали.
На мышонка кинулась собака, когда серый, пугливый комочек перекатывался через лесную дорожку… Мышонок замер перед неожиданной смертью. Но собака отступила, отступила от необычного — лесной малыш остановился перед собачьей мордой, а не убежал. Вот тогда Иван Михайлович и разглядел трясущиеся лапки звереныша… Он рассказал об этом коротко и просто: «Лапки трясутся, а храбростью собаку победил…»
Победить храбростью стихию, победить терпением и умением ждать, ждать и всегда найти выход из любой сложной ситуации — это и было, видимо, для вдумчивых лесных людей предпосылкой ещё к одной победе — к победе над одиночеством, к победе над самим собой…
Такая победа давалась сначала трудно. Трудно было привыкнуть молчать, не пользоваться языком. Но я молчал, молчал неделю, вторую — тогда, в первое мое одиночество, рядом не было даже собаки. Молчание доводило до исступления, хотелось бросить все сразу и сразу оказаться там, где люди. Начинали надоедать знакомые предметы, обстановка, печь, котелки. Как‑то котелок, небрежно поставленный на шесток печи, упал, и я впервые за одиночество услышал свой собственный голос — это была непристойная ругань. Я искал, кто выругался, и не нашел. И опять стал молчать. А когда окончилось одиночество, когда пришли люди, то совсем не знал, как с ними говорить, — наверное, тогда я и научился по–настоящему слушать людей. Потом наука победы над одиночеством привела меня к умению петь про себя, к памяти прошлого, к думам о завтрашнем, ручка и тетрадь снова вернулись ко мне, но вернулись уже по–другому, и я хорошо запомнил, как однажды сел записывать первую свою сказку… Сказка была про звездочку, про маленькую ласковую звездочку за моим вечерним окном. Эта звездочка приходила ко мне в конце каждого рабочего дня, я ждал ее. В такие дни всегда разговаривали со мной добрые березовые дрова, и, может быть, особое тепло этих дров и помогло мне посмотреть на обычную звездочку за окном как на живое существо…
Первая сказка у меня, пожалуй, не получилась. Но само умение не слишком трудно жить в одиночестве оставалось даже тогда, когда до людей было много дальше, чем в первое тягостное молчание с самим собой…
И сейчас я снова молчу, сейчас снова избушка, печка и тихие сказки углей, сейчас я оканчиваю рассказ о не такой уж редкой лесной обстановке, которую люди почему‑то называют одиночеством. Одиночества нет. Есть печь, умная, теплая печь, у которой свой собственный характер. Этот характер надо хорошо знать, чтобы не обжечь руки и не истратить попусту дрова. Есть столик, низенький, удобный столик. На его досках длинный ряд моих зарубок. Эти зарубки сейчас отмечают дни, проведенные за пишущей машинкой. Зарубки помогают не потерять счет дням, по–своему хранят память о прожитом и тоже, наверное, передают ту обстановку, в которой нередко теряются не только дни недели, но и числа… Угли в печи совсем гаснут, гаснут, рассказывая еще одну лесную историю, историю–правду. Огонь умирает, умирает дерево, но я не остаюсь один. Рядом со мной ждут завтрашнего утра окуни, ждут ели, сумрачные таежные ели, хранящие не одну историю, не одну сказку, остается рядом со мной даже тот ветерок, который все никак не угомонится, все еще куда‑то несется, несется… А может, он просто летит туда, где меня, наверное, уже очень–очень ждут…
Глава двадцать первая
ЖЕНЩИНЫ
С неделю над озером, над тайгой висел густой, мокрый снег. За снегом терялись берега, под снег уходили вчерашние дороги, а когда в жидкое, холодное месиво врывался еще и крутой ветер, человеку могло показаться, что из этой каши ему никогда не выбраться. Тогда дорога к людям становилась еще труднее и дальше, и пройти такую дорогу по доброй воле, пожалуй, согласился бы не каждый…
В те дни я рано возвращался домой. Устало затаскивал на берег лодку, грустно оценивал очередной улов и немного оживал только у печи за кружкой чаю. У огня забывались холодные, серые волны, тяжелая мокрая посудинка, черпавшая осевшим бортом, позднее октябрьское озеро и плотные сырые глыбы снега в носу лодки. Лодка зарывалась в воду, с трудом поднималась над волной и очень походила тогда на мокрое, раскисшее бревно, которое вот–вот должно было совсем опуститься на дно и стать гнилым, скользким топляком…
Чего я ждал тогда: лучшие дни? Лучшую дорогу к людям или снег?.. Наверное, и снег, настоящий зимний снег, который вдруг заскрипит под сапогом, зафыркает, заупрямится первым сердитым морозцем. Ты будешь шагать осторожно, боясь разбудить, побеспокоить только что появившуюся луну. Луна обязательно будет ясной и чистой, но не злой и колючей, а ласковой и тихой. Это будет первая луна настоящей зимы, зимы, которая только–только незаметно прошла впереди тебя по дорожке, прошла, но, узнав сзади твои шаги, остановилась и посмотрела на тебя хорошей, спокойной луной… Я очень ждал эту первую луну, первые шаги зимы и первый яркий скрип снега, как ждут первое, когда‑то потерянное, но вновь собравшееся вернуться свидание.