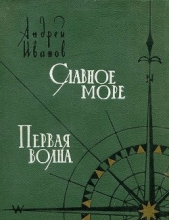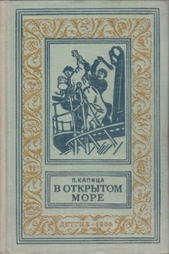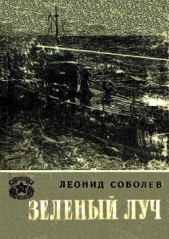Зеленый луч(изд.1959)

Зеленый луч(изд.1959) читать книгу онлайн
Повесть "Зеленый луч" посвящена морякам Военно-Морского флота.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Восемьдесят семь? — удивился Воронин. — Где же они тут поместились?
— По кубрикам да тут, в кают-компании… Локтем к локтю стояли, как в трамвае, до самого Новороссийска…
— Ну-ну, — покачал головой Воронин. — Этак и перекинуться недолго…
— Если на палубе держать, очень просто. Только старший лейтенант Парамонов всех вниз послал, ну и шел аккуратно — больше пяти градусов руля не клал, а погода тихая, все шло нормально… — Быков усмехнулся. — То есть нормально, пока моряков возили. А на третьем рейсе армейцев взяли, так с ними целая сцена вышла. Никак вниз не идут: натерпелись люди, нервничают, да и наслышаны о всяком. Кому охота в мышеловку лезть? Иван Александрович и так и сяк, а они стояли наверху, вот-вот перевернемся. Тогда он как крикнет на весь катер: «Приготовиться к погружению!» Я пошел по палубе. «Ну, — говорю, — кто собирается поплавать, оставайтесь наверху, а мы сейчас подводным рейсом пойдем, светает, самолеты налетят!..» В момент палуба чистая, мы люки задраили, и метацентр на место стал.
— Здорово! — опять восхищенно воскликнул Воронин.
Майор изумленно уставился на Быкова и вдруг расхохотался, да так, что на глазах его выступили слезы. Он взмахивал рукой, пытаясь что-то сказать, но снова принимался хохотать настолько заразительно, что даже Решетников, не раз слышавший эту историю, невольно засмеялся сам. Наконец Луникову удалось вставить слова между приступами смеха:
— Так и я… И я… Я тоже полез!..
— Куда? — изумился Решетников.
— В кубрик… Там где-то, на носу…
Быков оторопело на него посмотрел:
— И вы тогда с нами шли, товарищ майор?
— Выходит, шел, — сказал Луников, переводя дух. — Это первого июля было? В ночь на второе?
— Точно…
— Из Стрелецкой бухты?
— Точно, товарищ майор.
— Ну, значит, так и есть… Тьма была, толчея, крики… Меня мои ребята куда-то сунули с пристани — ранен я был, в плечо и в голову; очнулся — сижу у какой-то рубки, кругом чьи-то ноги да автоматы, теснота. Вдруг все ноги исчезли, я обрадовался, дышать есть чем, а сверху вдруг голос, да такой строгий: «Хочешь, чтоб смыло? Слыхал, на погружение идем? Сыпься вниз!..» Это уж не вы ли меня шуганули, товарищ Быков?
Теперь пришла очередь расхохотаться Решетникову:
— А вы и поверили?
— Да мне тогда не до того было — опять худо стало, а вот эти слова запомнил. Потом, в госпитале, все спорил: мне говорят — вас парамоновский катер вывез, а я говорю — подлодка… Все в голове перепуталось, так и не знал, кому спасибо сказать… Ну ладно, хоть теперь знаю…
Майор потянулся в карман за папиросой и добавил уже серьезно:
— Смех смехом, а выходит, Парамонову я жизнью обязан. Меня ведь одним из последних на катер взяли… Помню, кто-то кричит: «Больше нельзя, ждите еще катеров!», а кто-то говорит: «Командир еще троих разрешил, раненых!» Тут меня и перекинули на борт… А ребят своих, кто меня до бухты донес, я так потом и не сыскал… Обязательно надо мне Парамонова поблагодарить. Где он теперь? Небось дивизионом командует?
— Погиб он, — коротко сказал Быков.
— А, — так же коротко отозвался Луников.
И внезапная тишина встала над столом. Лишь тоненько позвякивали в тарелках ложки да гудели за переборкой моторы низким своим и красивым трезвучием, похожим на торжественный органный аккорд.
Удивительно и непередаваемо то молчание военных людей, которое наступает после короткого слова «погиб». Те, кто знал исчезнувшего, думают о нем, вспоминая, каким он был. Те, кто не знал его, вспоминают друга, которого так же вырвала из семьи товарищей быстрая и хваткая военная смерть. И оттого, что смерть эта всегда где-то рядом, всегда вблизи, те и другие одновременно с мыслью о погибших думают и о самих себе: одни — удивляясь, как это сами они до сих пор еще живы; другие — отгоняя от себя мысль о тем, что, может быть, завтра кто-то так же скажет и о них это короткое, все обрывающее слово; иные — с тайной, тщательно скрываемой от других и от себя радостью, что и на этот раз военная смерть ударила не в него, а в другого. А кто-то в сотый раз испытывает при этом известии необъяснимую уверенность, что погибнуть в этой войне могут все, кроме него самого, потому что его, именно его, лейтенанта или старшину второй статьи, здорового, сильного, удачливого человека, который привязан к жизни тысячью крепких нитей, кого мать называет давним детским именем, а другая женщина, более молодая, — новым, ласковым, ею одной придуманным и только им двоим известным, и кому нужно в жизни сделать так много еще дела, узнать так много чувств и мыслей, — именно его военная смерть не может, не должна, просто не имеет права коснуться. А кто-то, напротив, в сотый раз подумает о смерти со спокойным равнодушием человека, уставшего от давнего непосильного боевого труда и согласного на любой отдых, даже если отдых этот — последний. Но все эти люди, думающие так по-разному, одинаково замолкают и отводят друг от друга глаза, уходя в свои непохожие и различные мысли, и молчание это становится непереносимым, и хочется что-то сказать — о том, как жалко погибшего, о том, как вспыхнуло сердце холодным огнем мести, о многом, что рождает в душе это короткое слово «погиб», но все, что можно сказать, кажется невыразительным, бедным и пустым, и люди снова молчат, ожидая, кто заговорит первым.
Воронин вздохнул и, деловито зашуршав картой, пристально взглянул на нее, потом зажмурил глаза, отпечатывая в памяти тропинки и склоны. Быков прислушался к гулу моторов и, видимо уловив какой-то не понравившийся ему новый звук, привстал и, спросив у Луникова: «Разрешите, товарищ майор?» — быстро пошел в машинный отсек. Решетников взглянул на часы и тоже привстал.
— Разрешите на мостик, товарищ майор? — сказал он, потянувшись за ушанкой.
— А капусты с колбаской и какавы? — без улыбки спросил Луников.
— Темно уже.
— Когда рассчитываете подойти?
— Часа через три, если ни на кого не напоремся.
— Я не спросил, кто с нами на шлюпке пойдет?
— Боцман наш, старшина первой статьи Хазов, и Артюшин, старшина второй статьи, рулевой. Люди верные, не раз ходили.
Луников подумал.
— Пришлите ко мне боцмана, если не спит. Потолкуем с ним, как все это получше сделать.
— Пожалуйста. Он сейчас спустится ужинать с моим помощником, — отозвался Решетников не очень приветливо.
Луников вскинул на него глаза, снова отметив что-то про себя, и сказал с той побеждающей ласковостью, с какой говорил о жадановском котелке:
— Да вы не беспокойтесь, товарищ лейтенант, я в ваши командирские дела вмешиваться не стану. Просто любопытно с ним поближе познакомиться. Как-никак, мы ему жизни доверяем, а также успех всего дела, так интересно, кому…
Он говорил это, как бы оправдываясь, хотя мог просто приказать, ничего не объясняя, и Решетников снова почувствовал расположение к этому седеющему спокойному человеку.
— Боцман у нас неразговорчивый, вроде Быкова… Ну что ж, попробуйте, — улыбнулся он, шагнув к двери, и чуть не столкнулся с Жаданом, который нес чайник и бачок.
— Куда ж вы, товарищ лейтенант? — спросил тот испуганно. — Какаву же несу!
— После какао попью, товарищ Жадан, — ответил Решетников, надевая ушанку. — Вот гостей проводим на бережишко и попьем, а вы пока их угостите как следует.
Он закрыл за собой дверь и остановился в коридорчике у трапа, выжидая, пока глаза, ослепленные яркими лампами кают-компании, привыкнут к темноте, которая ждала его за крышкой выходного люка.
Глава шестая
В самом деле, наверху уже совершенно стемнело. Южная ночь быстро вытеснила за горизонт остатки света на западе, соединив небо и море в одну общую тьму, окружавшую катер. Но если сперва Решетникову казалось, что тьма эта непроглядна и что она начинается у самых ресниц, словно лицо упирается в какую-то мягкую стену и от этого хочется плотно зажмурить бесполезные глаза, то потом, когда он постоял на мостике, стена эта незаметно исчезла, будто растаяв. Море и небо разделились. Темнота получила объемность, ожила, и ночь открылась перед ним в своем спокойном, молчаливом величии.