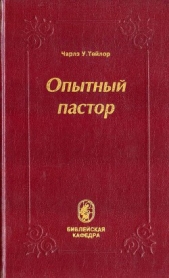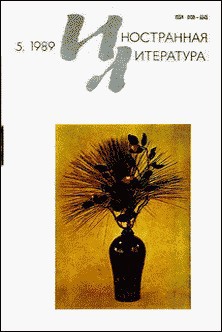Ашборнский пастор
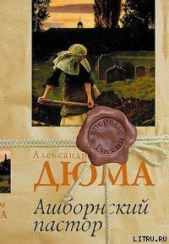
Ашборнский пастор читать книгу онлайн
Сложные переплетения сюжета захватывающего романа А. Дюма «Ашборнский пастор» открывают еще одну, далеко не всем знакомую грань литературного дарования автора «Графа Монте – Кристо», погружая читателя в атмосферу мистики. В водоворот событий здесь вовлекаются не храбрые мушкетеры, а простодушный английский сельский священник, людские судьбы решает не коварный кардинал, а трагический рок и призрак безутешной дамы в сером уводят пастора из его восемнадцатого века в ее семнадцатый.
Роман «Ашборнский пастор» («Le Pasteur d'Ashbourn»), представляющий собою сочетание повести в духе «черного» готического романа ужасов XVIII в., автобиографии героя и биографического очерка Байрона, написан Дюма в 1853 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Этот сумрачный пасторский дом станет веселым, улыбчивым и радостным, когда наш ребенок, наш Уильям или наша Дженни, наполнит его своим смехом и осветит своим присутствием!
– Да, – пробормотал я, – это так, если по милости Господней этот ребенок придет к нам один; а что, если у нас появятся двое близнецов?..
И с тяжким вздохом я вошел в дом.
XII. Предосторожности
После возвращения Дженни жизнь в доме вошла в привычную колею.
Жена оставалась радостной и полной надежд.
А я был мрачным и озабоченным, поскольку думал только о даме в сером.
Я держал слово, данное самому себе, и, хотя испытывал острое желание рассказать Дженни о моем походе в замурованную комнату, ибо такой рассказ доставил бы моей гордыне немалое удовлетворение, я все же об этом не обмолвился ни словом.
Но жена видела мою озабоченность; она заметила, что кирпичи в кладке, которая замуровывала комнату дамы в сером, соединены свежим известковым раствором, и спросила об этом Мэри.
Мэри, которая, вероятно, умирала от желания обо всем рассказать хозяйке, так же как Дженни умирала от желания все узнать, описала происшедшее во всех подробностях.
Дженни тут же прибежала ко мне. С первых ее слов я понял, что она знает все.
Я заставил ее повторить рассказ Мэри от начала до конца и внес поправки в кое-какие слишком уж наивные его места, которые, быть может, не полностью представляли меня – я не скажу таким, как я сам себя видел, но таким, как я хотел бы выглядеть в глазах Дженни; ведь, по моему мнению, а Вы, дорогой мой Петрус, уверен, разделяете его, – так вот, по моему мнению, правильный расчет состоит в том, чтобы выглядеть в глазах женщины только во всех своих достоинствах и во всем том превосходстве, какое мужчина должен всегда сохранять по отношению к женщине.
К моему большому удивлению, вся эта фантастическая одиссея не очень-то заинтересовала Дженни; она видела в проклятой комнате только ее материальную сторону, то есть полураспавшиеся ставни, свисающие лохмотьями обои, продавленную кровать, открытые настежь пустые шкафы, несколько кусков веревок, валяющихся на полу, и одежды, подвешенные на гвозде.
Когда я упомянул о том, как они неожиданно упали, Дженни сочла это вполне естественным.
– А что тут удивительного? – сказала она мне, сопровождая слова своим простодушным взглядом и доверчивой улыбкой. – Что удивительного в том, что гвоздь, изъеденный ржавчиной, выдерживавший груз в течение трех веков, сломался при малейшем сотрясении этого груза?..
Сломанный гвоздь удивлял не более того, что в силу закона притяжения, согласно которому твердые тела, лишившись опоры, падают вниз, куча одежды упала на пол.
Что касается пыли, поднятой падением одежды, в ней не было ничего необычного, если принять во внимание помещение, наглухо закрытое на протяжении трех столетий, и чудом было бы отсутствие здесь пыли.
Само собой разумеется, обладая таким рассудительным умом, Дженни не допускала и мысли о шкафах, дверцы которых открываются сами по себе; о веревках, оживающих и свивающихся на полу; об одеждах, взбирающихся по стене и возвращающихся к своему прежнему месту на трехсотлетнем гвозде.
Такой эпилог этой удивительной истории она посчитала творением ума, плодом воображения, то есть она признала гений поэта, но оспорила правдивость его рассказа.
Однако, допуская, что у всех этих треволнений есть причина, и видя мое глубокое и серьезное беспокойство, Дженни решила помочь мне, тем более что она была в силах докопаться до его источника; в этом ее поддерживала уверенность, что по мере нашего приближения к реальности сама эта реальность вытесняет из предания все устрашающее в нем и предоставляет нашим философическим рассуждениям какой-нибудь почти ничтожный факт.
Я же продолжал копаться в церковных документах и в общинных архивах; но, тщетно листая страницу за страницей всякие акты и книги записей, я не нашел ничего иного, кроме уже упомянутой заметки доктора Альберта Матрониуса, магистра богословия, – заметки, как Вам известно, касающейся восстановления небольшого каменного креста в углу местного кладбища.
Что касается замурованной двери, то она мало-помалу высохла и никакая трещинка на ней не указывала на то, что дама в сером предпринимала попытки ее открыть.
Тем временем беременность Дженни становилась все более явной; в начале июня она была уже на шестом месяце. В результате собственных расчетов я с радостью увидел, что случай, а скорее Провидение, сочетало сроки таким образом, что Дженни должна была родить раньше злополучной ночи с 28 по 29 сентября, отделяющей день святой Гертруды от дня святого Михаила, ночи, когда дама в сером имела обыкновение появляться.
Однако, поскольку в конце концов нигде не было сказано, что дама в сером может явиться только в эту ночь, меня эта вычисленная дата окончательно не успокоила и, полагая необходимым, что ее появление будет действенным лишь тогда, когда она предстанет перед отцом или матерью детей, жизни которых она угрожала, я старался, чтобы ни Дженни, ни я не оказались на пути от замурованной комнаты к эбеновому дереву, а это, напомню, был ее обычный маршрут.
А потому я изменил часы своей работы. Дженни часто бранила меня за то, что я работал по ночам, а не днем, и в интересах моего здоровья высказывала беспокойство по поводу того, что я в столь позднее время ложусь в нашу постель.
Однажды вечером я заявил жене, что полностью разделяю ее упреки по моему адресу, к которым она больше не возвращалась, считая, вероятно, их бесполезными, и что отныне я желаю, чтобы в девять вечера в пасторском доме все, даже я сам, укладывались спать. Таким образом, я мог бы подыматься до рассвета и со свежими силами чередовать свои литературные и философские труды, которым предстояло приобрести большой размах с того времени, когда мой ум освободится и я смогу отдаться работе над моим великим произведением, исполняя при этом обязанности, налагаемые на меня моей должностью и моим званием.
Дженни не спросила меня о причине такой перемены; она приняла ее с радостью, ибо видела, что точно так же все происходило в Уэрксуэрте: то просто был привычный ей с детства жизненный уклад, к которому она охотно вернулась.
Благодаря моей новой уловке я уже не рисковал, как прежде, по пути из кабинета в комнату жены встретиться с дамой в сером – во всяком случае, мне хотелось в это верить, – ибо дама в сером появлялась только в полночь.
Дорогой мой Петрус, Вы, вероятно, можете сказать мне: дама в сером могла точно так же появиться в комнате Дженни, как и на лестнице, в коридоре или в саду; но я Вам отвечу: с тех пор как мне пришла в голову мысль сочинить большой труд о привидениях, я основательно изучил нравы призраков; в общем, у них тоже есть вполне определенные привычки, от которых они так легко, как я, не отказываются, а поскольку дама в сером привыкла выходить из своей комнаты, спускаться по лестнице, проходить через сад и усаживаться под эбеновым деревом, я надеялся, что она достаточно упряма для того, чтобы не изменять своим привычкам.
Впрочем, если бы она попыталась явиться мне, когда я спал, не знаю, как бы она ухитрилась это сделать: в число моих новых обыкновений входила манера спать, укрыв голову одеялами; сначала я терпел это с трудом и не раз был близок к тому, чтобы задохнуться; но в конце концов я преодолел эти неудобства и приучил себя вдыхать во время сна в три раза меньше воздуха, чем во время бодрствования, а это, дорогой мой Петрус, представляется мне немаловажным для науки фактом, и, если Вы упомянете его в каком-нибудь труде, я не вижу ничего плохого в том, что Вы присоедините к нему мое имя.
Итак, каждый день в девять вечера мы неизменно отправлялись на покой; следовательно, в полночь я всегда спал, а если не спал, то, по крайней мере, притворялся спящим, и глаза мои были закрыты не крепостью сна, а усилием моей воли.
Так что, отвечаю Вам, сила воли во мне настолько окрепла, что все в мире дамы в сером не смогли бы заставить меня откинуть одеяло или открыть глаза.