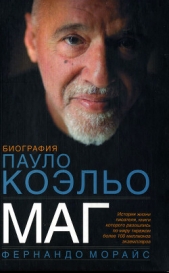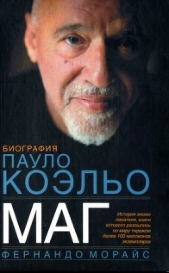Инженю

Инженю читать книгу онлайн
Сюжет романа Дюма «Инженю» — любовная драма, которая разыгрывается на фоне событий, непосредственно предшествующих Великой французской революции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Правда?
— Ревельон был очарован, как ты прекрасно понимаешь, а его дочери еще больше; все терялись в догадках, строили предположения… Но ничего не придумали! Наконец, его выследили и увидели моего молодца, который перелез через живую изгородь и неистово мотыжил землю, пытаясь при этом, словно вор, себя не обнаруживать.
— А почему? — с улыбкой спросила Инженю.
— Подожди, именно об этом и осведомился Ревельон, подойдя к нему. «Ну что, Оже, значит, вы стали садовником у моих дочерей? Ведь это лишняя работа, за нее не платят». — «О сударь, — возразил Оже, — мне и так платят слишком много». — «Как вас понимать, Оже?» — «Да, сударь, мне платят не по моим заслугам и моему труду». — «Что вы имеете в виду? Объясните». — «Сударь, ваши дочери дружат с мадемуазель Инженю?» — «Да». — «Разве они при случае не дарят ей цветы?» — «Дарят». — «Знайте же, сударь, что в саду я тружусь ради мадемуазель Инженю».
— Ради меня?! — удивилась девушка.
— Потерпи, сейчас все поймешь! — воскликнул Ретиф. — «Когда я царапаю ладони о шипы роз, — продолжал Оже, — и орошаю своим потом землю, то думаю: „Этого слишком мало, Оже! Ты должен отдать этой девушке свою кровь, должен отдать свою жизнь. И когда настанет счастливый миг пролить кровь и пожертвовать жизнью, люди поймут, был ли Оже бессердечный и беспамятный!“«
Инженю, взглянув на отца с некоторым сомнением и слегка покраснев, спросила:
— Он так сказал?
— Еще лучше! Он сказал гораздо лучше, дочь моя! Инженю, слегка нахмурив брови, потупила голову.
— В общем, он прелестный малый, — подытожил Ретиф, — и Ревельон уже вознаградил его за это.
— Скажите на милость! И каким же образом?
— Оже, как я и предвидел, неспособен быть простым рабочим, не создан для черного труда: он отменно пишет и считает, как математик; кроме того, мадемуазель Ревельон обратила внимание отца на то, что у него очень ухоженные и вовсе не приспособленные к грубой работе руки, поэтому Ревельон, забрав Оже из мастерских, определил его делопроизводителем в контору. Это доходное место: тысяча двести ливров в год и стол в доме.
— Да, место действительно очень доходное, — невольно согласилась Инженю.
— Конечно, оно не стоит того места, которое он оставил, чтобы занять это. Ревельон сказал ему прямо: «Оже, здесь у вас нет королевской кухни, но принимайте ее такой, какая она есть». Для Ревельона, спесивого, как идальго, сказать такое Оже было непросто, но что поделаешь, дитя мое, если этот чертов тип Оже способен влиять даже на характер людей. «Ах, сударь!..» — ответил Оже… Выслушай внимательно этот ответ, дитя мое: «Ах сударь, лучше есть черствый хлеб честного человека, чем фазанов злодеяния!»
— Отец, вопреки вашему мнению, я нахожу фразу несколько напыщенной, — возразила Инженю, — и мне не очень нравятся эти «фазаны злодеяния».
— Ты права, мне тоже последние слова во фразе кажутся вычурными, — согласился Ретиф. — Но, видишь ли, дитя мое, и у добродетели бывает своя экзальтация, которая легко проникает в язык, существует упоение добродетелью. Сейчас Оже опьянен собственной добродетелью; это похвально, надо поощрять такие вещи; поэтому я легко пропустил этих «фазанов злодеяния». Кстати, признаюсь, мне очень нравится первая часть фразы: «Черствый хлеб честного человека», она звучит хорошо, и в театре из нее можно было бы извлечь эффект.
Инженю кивнула в знак согласия.
Во время этого разговора Ретиф сменил неизменный сюртук на домашнее платье, несколько смешное, но удобное для произнесения напыщенных речей.
— Странная превратность судьбы! — воскликнул он, чувствуя себя свободнее в жестах. — О удары фортуны! Капризы жизни! Игры души! Вот человек, кого мы ненавидели, кто был нашим главным врагом; вот негодяй, кому мы с тобой могли бы открыть скорую и прямую дорогу на виселицу, не правда ли?
— На виселицу! — подхватила Инженю. — О отец, господин Оже очень виноват, но мне все-таки кажется, что вы заходите слишком далеко.
— Да, ты права, я, наверное, слегка преувеличиваю, — согласился Ретиф. — Но я ведь поэт, дорогая моя: «Ut pictura poesis note 31», как говорит Гораций. Посему я повторяю — «на виселицу», ибо если ты не отправила бы его туда, то я — мужчина, твой отец, человек, уязвленный в моих чувствах и в моей чести, — отправил бы его не только на виселицу, но и на колесо, причем с большим удовольствием. И вот сегодня оказывается, что человек этот — самый безупречный и совершенный из порядочных людей; он присоединяет к своим достоинствам еще и раскаяние и поэтому вдвойне достоин похвал: и за то, что творит добро, и за то, что делает это после того, как вершил зло! О Провидение! О религия!
Инженю изредка бросала на отца встревоженные взгляды: ее начинала пугать эта восторженность.
— Благостен завет законодателя Иисуса, — продолжал Ретиф. — «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
— Почему вы называете Иисуса Христа законодателем? — поинтересовалась Инженю.
— Так оно и есть, дитя мое, — ответил Ретиф. — Мы, философы, знаем, какие понятия следует употреблять. Поэтому я считаю Оже честнее других и признателен ему еще больше за то, что благодаря тебе он стал добродетельным человеком.
— Но почему благодаря мне, отец?
— Несомненно тебе! Признай же в этом тайный голос сердца, сию движущую силу всех великодушных деяний в бренном мире: если бы Оже не любил тебя, он бы так не поступил.
— Помилуйте, отец! — покраснев, воскликнула Инженю, которой было и стыдно и неприятно.
— Да что там любовь! — продолжал Ретиф. — Надо боготворить людей, чтобы ради них жертвовать всем… всем! Поэтому не будем здесь говорить: «Оже стал добродетельным из-за любви к добродетели». О нет! В этом ошибка людей заурядных; в этом ошибка и доброго кюре Бонома, и почтенного фабриканта Ревельона, которые оба приписывают преображение Оже пробуждению совести. Нет, дочь моя, нет! Если Оже становится лучше, то происходит это вовсе не из любви к добродетели, а благодаря добродетели любви.
От Инженю ускользнул смысл этой тонкой мысли.
Из этого последовало, что Ретиф, — в тот вечер он, казалось, к каждому своему слову привязывал бубенчик, чтобы при случае позвенеть им, — Ретиф не смирился с непониманием дочери.
— Ну, нет! — вполне довольный собой, воскликнул он. — Признаться, мне кажется, я сейчас высказал интересную мысль и, честно говоря, Инженю, меня удивляет, как ты, с твоим изысканным вкусом, которым тебя одарили Небеса, не обратила на нее внимания. Выражение «добродетель любви» дает мне прелестный заголовок для моей новой новеллы или даже для романа.
И с этими словами Ретиф, поцеловав дочь, удалился к себе в альков и задернул полог, чтобы целомудренно раздеться перед отходом ко сну.
Через пять минут добряк Ретиф, убаюканный радостью находки столь прекрасного заголовка, а может быть, и парами тонких вин, выпитых им за ужином, заснул праведным сном довольного собой человека и поэта.
Инженю, не желая спать до тех пор, пока не уяснит себе, что же означало это обожание Оже в то самое время, когда обнаружилась холодность Кристиана, удалилась к себе в комнату.
XLI. ВЛЮБЛЕННЫЙ ОЖЕ
Впрочем, все, что в отношении Оже Ревельон сказал Ретифу, а Ретиф передал дочери, было чистейшей и неоспоримой правдой.
Казалось, Оже, движимый пожиравшим его душу тайным пламенем, успевает повсюду.
Сначала сослуживцев охватило головокружение от того бесстрашия, с каким он набрасывался на стопу бумаг, когда под его руками она таяла прямо на глазах; потом их прошибал холодный пот; и это легко поймет каждый, кто хотя бы четверть часа наблюдал работу любой конторы.
Делопроизводитель на государственной службе издавна был лентяем — это доказано и общепризнано; но и делопроизводитель, состоящий на службе у частного лица, обычно ни в чем ему не уступает, если может позволить себе бездельничать.