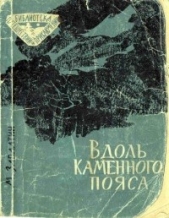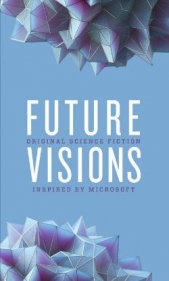Таинственный доктор

Таинственный доктор читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Виновен ли Людовик XVI?
Подлежит ли наш приговор обжалованию?
Какой кары заслуживает король?
На все эти лаконичные вопросы были даны еще более Лаконичные ответы:
Виновен ли он?
— Да.
Подлежит ли наш приговор обжалованию?
— Нет.
Какой кары заслуживает король? — Смерти.
Спасение Франции таилось в ее единстве.
Какой предлог использовать для укрепления этого единства?
Предлог нашелся сам собой: им стали похороны Лепелетье Сен-Фаржо.
Оставалось отыскать нужного оратора.
На эту роль требовался человек, ни словом, ни действием не замешанный в раздорах.
Среди членов Конвента был человек, появлявшийся на заседаниях всего два раза, и оба раза для того, чтобы возвестить победу французского оружия; разумеется, его встречали громом рукоплесканий.
В третий раз он поднялся на трибуну, чтобы высказать свое мнение при голосовании, и высказал его с такой решимостью, что, хотя он и подал голос за милосердие, зал выслушал его в молчании.
Он сказал:
— Я подаю голос за пожизненное заключение короля в тюрьму, ибо, будучи врачом, почитаю своим долгом бороться со смертью, какое бы обличив она ни принимала.
В зале нашлось несколько человек, которые проводили этого оратора рукоплесканиями.
Он сошел с трибуны и вернулся на свое место среди жирондистов.
Всем захотелось узнать, кто этот человек; выяснилось, что это врач по имени Жак Мере, депутат от города Шатору.
После разговора с Жаком у постели своей жены Дантон принял решение: человеком, который использует смерть Лепелетье Сен-Фаржо для того, чтобы призвать Францию к единению, должен стать Жак Мере.
До сих пор Жаку Мере приходилось больше действовать, чем говорить. Революция пока еще не востребовала его ораторский дар.
Да и был ли он оратором? Ответить на этот вопрос, неясный для самого доктора, должно было близкое будущее.
Жаку было приятно выступить с этим похвальным словом. Покойный прославил себя уже тем, что начертал план воспитания юношества, указал молодым французам путь к единству, в котором так нуждалась Республика.
У Лепелетье осталась малолетняя дочь; вся Франция торжественно удочерила ее и нарекла священным именем «дочери Республики»; под черным покрывалом, в сопровождении двенадцати других детей девочка шла за гробом.
Кому же еще, как не детям, следовало идти за гробом того, кто посвятил свою жизнь великой идее: отыскать способ учить детей так, чтобы они усваивали знания не уставая, а радуясь.
Тело Лепелетье было выставлено посередине Вандом-ской площади, там, где теперь высится колонна. Грудь покойного обнажили, дабы каждый мог видеть рану; окровавленное оружие, которым эта рана была нанесена, лежало рядом.
Вокруг этого кенотафа собрались все члены Конвента; под звуки траурной музыки председатель приподнял голову покойного и увенчал ее короной из цветов и дубовых листьев.
Тогда из рядов депутатов выступил Жак Мере, отбросил назад прекрасные темные кудри, поднялся на две ступеньки, поставил ногу на третью, поклонился покойному и голосом, слышным не только людям, толпившимся на площади, но и тем, что наблюдали за церемонией из окон окрестных домов, словно со скамей огромного амфитеатра, произнес следующую речь 15:
— Граждане представители народа! Прежде всего позвольте мне поблагодарить вас за то редкостное единодушие, которые вы проявили на следующий день после казни Капета, в тот миг когда глаза всего мира устремлены на вас. Король-эгоист имел однажды наглость сказать: «Государство — это я». Конвент, преданный великому принципу единства, был вправе сказать неделю назад: «Франция — это я».
Все великие меры, принятые вами, были приняты единогласно.
Единогласно проголосовали вы двадцать первого января за текст письма, извещающий департаменты о смерти тирана; текст этот, составленный от лица всего Конвента, делает каждого из нас причастным к смерти короля, даровавшей Франции свободу.
Единогласно проголосовали вы за выпуск девятисот миллионов ассигнатов, единогласно — за призыв в армию трехсот тысяч рекрутов, единогласно — за объявление войны надменной Англии, дерзнувшей вернуть нашему послу его паспорта.
Нынче французы постигли величие своей миссии. Их призвание состоит не только в том, чтобы защищать Францию от заговора королей, оно в том, чтобы укрепить единство отечества, отстоять неделимость Республики. Без единства нет жизни; раскол равносилен смерти!
Слова Жака Мере так точно совпадали с мыслями тех, кто собрался на площади, что речь его была прервана оглушительные рукоплескания.
— Слишком долго страдала Франция от расколов во времена так называемой единой монархии — вот отчего она подала голос за отмену королевской власти, за основание Республики, за смерть тирана.
Франции не пристали ни федеративное единство Соединенных Штатов, ни федеративное единство Голландии, ни федеративное единство Швейцарии.
Быть может, пока Франция состояла из провинций, она и могла бы уподобиться этим федерациям, но теперь, когда она поделена на департаменты, это невозможно.
Сейчас проповедовать федерализм так же преступно, как славить роялизм. Произносить эти два слова может лишь погубитель рода человеческого.
Заметьте притом, что никогда вопрос о единстве не вставал ни перед одной великой империей; в восемьдесят девятом году вопрос этот никого не волновал; в девяносто третьем мы дадим на него исчерпывающий ответ.
На площадь Революции явился сфинкс.
«Ответь или умри!» — требует он.
«Наш ответ — единство!» — крикнули мы ему и швырнули к его ногам голову короля.
А ведь, кроме гения Франции, указать нам путь было некому!
Руссо неспособен нам помочь; его «Общественный договор» утверждает: единство пристало государству маленькому.
А его «Соображения об образе правления в Польше» уточняют: государству великому пристало федеральное устройство.
Чем была старинная Франция? Федеративным королевством; объединение ее началось лишь при Людовике XI.
Будь Людовик XI жив сегодня, он сделался бы республиканцем и членом Конвента.
Кто первым заговорил девятого августа 1791 года о единой и неделимой Франции?
Наш прославленный собрат Рабо Сент-Этьенн. Склоним же головы перед нашим предшественником.
Жирондисты, к которым я имею часть принадлежать, в девяносто втором году были готовы из страха перед пруссаками покинуть Париж — малодушие, понятное всякому, кто помнит те мрачные дни; жирондистам удалось склонить на свою сторону почти все Собрание. Ковчегу Франции, палладию ее свобод, предстояло искать укрытия в тех богатых и стойких центральных провинциях, что дали некогда приют Карлу VII в пору его борьбы против англичан.
И лишь один человек сказал «нет» решению жирондистов. Правда, то был исполин.
Услышав «нет» из уст Дантона, Париж успокоился и раздумал трогаться с места.
Дело довершили пушки Вальми.
Сама христианская Церковь, имевшая столь мощные рычаги воздействия, не сумела создать единую Францию; плодом ее усилий сделалось разделение Франции на два несхожих мира.
Один, верхний мир населяли короли, принцы, аристократы, богачи, баловни судьбы, ученые, литераторы, поэты; то был мир Людовика XIV, Расина, Буало, Корнеля, Мольера, Вольтера; в другом, нижнем мире жили рабы, крестьяне, нищие — бедные, обездоленные люди, не умевшие ни читать, ни писать, говорившие на диалектах и не понимавшие даже того языка, на котором они просили у Господа хлеба насущного.
Я знаю, что по сей день великий вопрос о единстве еще не разрешен до конца; мы движемся к идеалу, но путь к нему пролегает через дремучий лес, в котором нас подстерегает чудовище по имени невежество, через царство неизвестности и мрака, рассеять который способно лишь всеобщее образование.
Мы приподняли лишь край покрывала и разглядели сословие, обретающееся сверху; в нижние слои общества свет знаний еще не проник. Мы создали театр для народа, выпустили декреты о новых национальных праздниках, однако тот, кого подлый убийца вырвал из наших рядов, не успел довести до нашего сведения созданную им программу народного образования — такого образования, которое научило бы нас жить, не ведая распрей.