Капитан полевой артиллерии
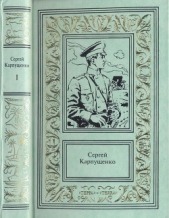
Капитан полевой артиллерии читать книгу онлайн
В романе «Капитан полевой артиллерии» описывается один из почти забытых эпизодов времен первой мировой войны: оборона неприступной крепости Новогеоргиевск. Главный герой, капитан полевой артиллерии Лихунов, попадает в немецкий плен, где начинает вести дневник, в котором находят отражение не только картины обороны крепости и жизни русского офицера в плену, но и размышления о смысле жизни, о вере, о том, что же такое война и кому она нужна…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В лодке, на счастье Лихунова, оказались весла, и он вставил их в уключины и погреб, вначале тихо-тихо, но потом все быстрей и быстрей, не выбирая пути, лишь бы подальше уйти от острова Дэнголем, на котором он был несвободен, унижен, где знал об этом сам и видел, что враги, которых он так ненавидел за жестокость, тоже знают о его унижении.
Без остановки, не замечая, как лопаются на ладонях пузыри, он греб до самого рассвета и даже потом, когда встало солнце. Был август, и солнце светило ярко и горячо. Дэнгольм совершенно слился с берегом, который маячил вдали узкой черной полосой. «Господи, неужели я свободен?» – подумал Лихунов и здесь, посреди серого полотнища моря, неприветливого и угрюмого, не боясь, что его увидят, он зарыдал, прижимая к лицу свои окровавленные ладони. Потом опустился на дно лодки и, укачиваемый волной, крепко заснул, не слыша, как горланили над ним не знающие о своей свободе, а потому и несвободные морские птицы.
Лихунов спал долго, но, когда проснулся, солнце еще стояло высоко. Подниматься со дна лодки не хотелось, но он все же поднялся, и первое, что он увидел, был черный дым, валивший из трубы какого-то маленького судна. Он вперил свой единственный глаз в этот дым, пытаясь определить, в каком направлении движется судно, и скоро понял, что шло оно к нему и что было оно паровым катером, очень похожим на те, что стояли на приколе Дэнгольма. Не замечая, как обожгла его боль, он вцепился истертыми руками в весла, ударил ими по воде, молясь своему, русскому Богу, чего не делал уже очень давно, стал бешено колотить веслами, стараясь уйти от погони, хотя и не был уверен в том, что катер гонится за ним, но он все же греб и греб, и дыхание его скоро стало похоже на хрип.
Лихунов не бросил весел даже тогда, когда катер подплыл к лодке вплотную. Был спущен маленький железный трап, по которому в лодку сошли два немецких солдата. Обессиленный Лихунов хоть и поднял над головой весло, не желая подчиняться воле этих людей, не признававших в нем человека, но, измученный, воспользоваться своим оружием не смог. Его подняли на палубу катера, где молча долго били, наказывая за дерзость, за желание не подчиняться победителю, за причиненные хлопоты, за то, что пришлось потратить на его поимку топливо, так необходимое Германии.
Когда Лихунов был доставлен на Дэнгольм, его сразу же провели в покои коменданта фон Буссе. Немецкий аристократ поднялся с низкого дивана, на котором уже долго сидел, читая книгу, – преимуществами службы он пользоваться не забывал, – шагнул к пленнику и с очаровательной улыбкой, очень спокойным тоном спросил:
– На что вы надеялись? В конце концов, это неразумно. Вы должны были соразмерить свои силы и возможности с нашими. Глупо.
Комендант подождал, надеясь на то, что Лихунов попытается дать ответ и у него будет возможность аргументированно опровергнуть все доводы русского, – фон Буссе гордился своей способностью мыслить диалектично и логично. Но Лихунов ничего не ответил коменданту, и фон Буссе, немного огорченный и недовольный пленным, немного притушил досадой ясный блеск голубых, как воды Рейна, глаз и заявил:
– Мы вас должны наказать, сами понимаете. Вы будете изолированы, но прежде вас осмотрит один наш доктор. Я подозреваю, что вы все-таки скорей нуждаетесь в лечении, чем… Впрочем, вы свободны. Я вами недоволен. Я полагал, что русские разумнее. Обидно.
И Лихунова увели. Он в тот же день был осмотрен лагерным психиатром, учившимся когда-то у самого Шарко. Врач методично, тщательно исследовал состояние психики Лихунова, исходя из представлений своей науки, личных наблюдений и собственной методы, говорящих за то, что есть резкая граница, отделяющая людей психически нормальных от обладателей патологии, которых, без всякого сомнения, не спрашивая их личного желания (они больны и не могут делать верные суждения), следует лечить, дабы от их присутствия не страдало общество. Провозившись с Лихуновым целый час, проверив его на нескольких очень верных тестах – последнем слове психиатрической науки,- врач безоговорочно признал военнопленного душевнобольным. В больнице имелось две одноместные палаты для такого сорта больных, в одну из них и препроводили Лихунова, который не возражал и лишь попросил оставить ему его хронометр и тетради с карандашом. Видя в этой просьбе проявление недуга и не желая потворствовать углублению заболевания, администрация больницы хотела было вначале Лихунову отказать, но психиатр заявил, что до начала процедур больного волновать излишне, и ему великодушно было разрешено взять и тетради и часы с собой.
«Тяжесть положения в лагере Штральзунд усугублялась еще и той странной ролью, которую играл старший в лагере генерал-лейтенант Джонсон, который, боясь быть переведенным в другой лагерь и потерять некоторые предоставленные ему удобства, всячески заискивал перед немцами – жал руку всем немецким нижним чинам, поднимал оброненные ими на пол платки и так далее. О своих офицерах он нисколько не заботился, отказываясь подписывать жалобы испанскому послу на явно незаконные прижимки и вымогательства немецкой администрации или вообще вступаться за наши интересы. Наоборот, он даже силился нам доказать, что немцы совершенно правы, удерживая, например, 45% с денежных переводов и тому подобное. По поручению немецкого правительства он объехал образцовые солдатские лагеря, и немцы ссылались потом на него, восхваляя свои порядки относительно содержания пленных нижних чинов. Тех же нижних чинов, которые имели наивность принести генералу Джонсону жалобы, немцы за это подвергнули наказаниям.
Совершенно иначе себя держал с немцами ставший старшим в лагере, после перевода генерала Джонсона в другой лагерь, казачий генерал Усачев. Держал он себя с достоинством, а когда немцы вздумали по случаю дня поминовения душ умерших устроить что-то вроде братания между русскими и немцами, предложив генералу Усачеву совместно с депутацией от русских офицеров и нижних чинов возложить венки на могилы немецких солдат, взамен чего немцы хотели возложить венки на могилы замученных ими русских военнопленных, то генерал Усачев наотрез отказался, говоря, что русское правительство не уполномочивало его выступать на официальном торжестве…»
Первое время Лихунову в палате для умалишенных, напоминавшей скорее одиночную камеру тюрьмы, чем больничное помещение, было неплохо. Раздражал лишь голос больного, доносившийся из-за стенки. Тот человек, как видно, тоже был признан сумасшедшим, или на самом деле был таким, или, в конце концов, поверил в правоту научных мнений о себе лагерного психиатра. Нет, этот больной не кричал, не бился в дверь, не плакал, а пел. Песня его была лишена слов и, наверно, даже музыки и походила на одну длинную унылую ноту, нескончаемую и похожую на вой ветра, гудящего в замочной скважине. Вначале Лихунов отнесся к пению соседа спокойно, но скоро он уже не мог слышать этот вой, напоминавший стон умирающего, загробное пение, вырывающее из его души куски, полосующее душу, и без того надорванную и кровоточащую. Он пытался стучать в стенку, просил замолчать, и больной на самом деле утихал, но потом тонкой струйкой к нему просачивался вначале тихий, невнятный, но становившийся с каждой минутой все более отчетливым тот самый звук, впивавшийся буравом в голову Лихунова, и он скрипел зубами, закрывая голову руками, хватал приготовленные из мягкой ткани носового платка затычки, засовывал их в уши, но пение сумасшедшего достигало его сознания все равно, и Лихунов кидался на постель и там, извиваясь, будто от сильной боли, втискивал голову в тощий матрас, закрывал подушкой, но так и не мог уйти от страшной могильной песни человека, благоразумно распрощавшегося с разумом.
Иногда все же на несколько часов сосед прекращал свое пение, и эти часы Лихунов блаженствовал: писал или смотрел в зарешеченное крошечное окно. Он только сожалел, что окно смотрит не на море, а на материк, прямо на Штральзунд. Лихунов часто смотрел на здания города, типично немецкого, с высокой ратушей, со шпилями нескольких церквей, и чем дольше он смотрел на этот город из своего оконца, тем сильнее тот начинал казаться ему каким-то ненатуральным, словно созданным в качестве декораций к какому-то спектаклю, и даже не к драме, где играют люди, а к кукольному представлению. Он видел такие города на иллюстрациях к немецким сказкам, и теперь Штральзунд казался ему не чем иным, как только иллюстрацией или бутафорией, ненастоящей, но исполненной искусно и любовно, где, впрочем, все фальшиво и служит для того, чтобы вызывать симпатию к тому, что ее вовсе не заслуживает. Вот поэтому Лихунов и жалел, что его окно повернуто не в сторону моря, пусть скучного и серого, но зато натурального и честного.

























