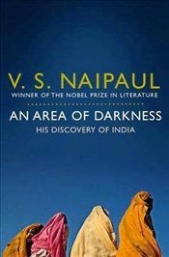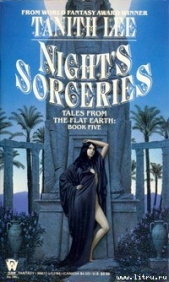И на земле и над землей

И на земле и над землей читать книгу онлайн
Эту книгу составили в основном новые произведения писателя. Исторический роман «Из тьмы забвенья» впервые открывает читателю древнюю эпоху еще дорюриковской Руси, воскрешает ранее неизвестные страницы ее сложной истории, эпические, полные величия и трагизма деяния наших далеких предков.
Своеобразны по языку, тематике и духовно-нравственному наполнению повести «Человек веселый», «Оглянусь — постою. Постою — подумаю…» и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Утреннее солнце заглянуло в окно сначала несмело, только своим краешком, а потом хлынуло широко и вольно, в одно мгновение наполнив дом щедрым искрящимся светом. Портрет Тимофея теперь оказался в тени, и, ослепленная этим светом, баба Груня на какое-то время перестала его видеть. Но сейчас она видела его глазами памяти, глазами души. То мальчонкой-подпаском, то вернувшимся с войны героем-соколом, то уже мужем ее и отцом ее детей.
Они жили в одном селе, прежде большом и красивом, учились в одной школе, обустроившейся в бывшей помещичьей усадьбе, встречались на общих работах в поле и на зерновом току.
Тимофей был на три года старше ее, но когда началась война, был еще молод для солдатского дела и весь первый военный год проработал в сельхозартели. В оставшейся без мужчин деревне такие, как он, вчерашние подростки сразу оказались на виду. Вместе с женщинами они вершили все дела в хозяйстве и в доме. Им доверяли, с них спрашивали по всей строгости военного времени, за ними тянулись те, кто был еще моложе. В том числе такие, как она.
Особенно трудно было в самые напряженные месяцы крестьянской жизни — осенью и весной. Техники, известно, никакой, только лошади да руки, приученные с детства держать вилы, лопаты, серпы да косы. И пусть ты мал и слаб — все равно не стой в стороне, вноси свою долю в общее дело. Чаще всего долю непосильную, тяжкую даже для взрослого работника, да что поделать — война. Ведь тем, кто на войне, еще труднее.
Обмолоченное и кое-как очищенное зерно свозили на ссыпной пункт за пятнадцать верст. По осенней слякоти, на расхлябанных телегах, на измученных голодных лошадях. То, что и сами были голодны, в расчет не принималось. Как и то, что пятнадцатилетней девчонке никак не поднять в одиночку полного мешка, тоже. Выручала взаимопомощь и особенно включавшиеся в обоз парни. Тимофей в таких поездках всегда оказывался рядом с ней. Сколько мешков перетаскали вместе, сколько слез пролили над сломавшейся осью или развалившимся колесом, один бог свидетель!..
А однажды он буквально спас ее от тюрьмы. Было это весной сорок второго. С завозом семенного зерна зимой почему-то не получилось, пришлось заняться этим в весеннюю распутицу. Женщины и старики покрепче ходили пешком с котомками на спинах, ну а им, девчонкам и подросткам, — опять в обоз. На тех же телегах, на тех же, но еще более обессиленных лошадях, по ужасному бездорожью.
Через разлившуюся речку пустили паром, на котором все и случилось. На середине переправы в утлый плот угодило плывшее с верховьев смытое водой дерево, испугавшиеся лошади раскачали его, и тут с ее телеги свалился один мешок. Удержать такую тяжесть у нее просто не хватило сил, так и плюхнулся в воду у всех на глазах.
Мешок семенного зерна в войну — сколько он стоил? В деньгах, может, и не так уж много, да разве в них дело? На фронте за подобную промашку взыскивали кровью, в тылу — свободой. Груня уже знала это и всю дорогу до конторы проплакала горькими слезами.
На подъезде к селу к ней подошел Тимофей и как старший обоза приказал перейти к его подводе. На ее недоуменные вопросы ответил коротко: «Так надо, а ты знай молчи». Так они поменялись местами в обозе и телегами. А когда сдавали зерно на склад, он заявил, что один мешок с его воза свалился в реку и утонул. Все, кто был в той поездке, подтвердили это. Недоверчивый председатель сгонял к реке верхового, который, вернувшись, передал свидетельство паромщика. Так подозрение в сговоре и хищении отпало, но «халатность» и «вредительство» остались. Тут же составили акт, сообщили о случившемся в райцентр, оставалось ждать прибытия конвоира. К счастью, дома Тимофея уже дожидалась повестка на фронт, и он в тот же вечер покинул родное село…
— Баба Груня, чего плачешь? Тебе больно, да?
Ну да, это пришла соседская Ленка. Засуетилась, затормошила:
— Опять сердце разболелось? А мы сейчас его — капельками, капельками… Вот, как раз хватит… Ей-богу, полегчает, пей…
Напрасно баба Груня уверяла, что сердце уже не болит, что только «печет» немного, а слезы эти нечаянные, оттого что вспомнила молодость свою, девчонка не отступалась:
— Выпей, и тогда даже «печь» перестанет. А вспоминать про плохое не надо. Мало ли что было при царе Горохе!
— Не при царе, — не удержалась от улыбки баба Груня. — И не про плохое. Плохое я давно уже оплакала, а это… Да не поймешь ты, мала еще.
— Это я, что ли, мала? — тряхнула головой Ленка. — А кто в последнем классе учится, не я? Если про любовь, так я и про любовь все понимаю. Мне вон сколько мальчишек уже записки пишут.
— Мне записок не писали, не то время было. И про любовь не говорили. А вот как вернулся с войны, так сразу — ко мне, свататься.
— Это кто же такой смелый сыскался?
— Как кто? Муж, поди, Тимофей…
Она чуть было не сказала «мой муж, а твой дедушка», да вовремя осекла себя: зачем это девочке, мало ли что было промеж них, взрослых. Этак полдеревни взбулгачишь!
— Ну, иди… Спасибо тебе… В школу, чай, уже опо здала, стрекоза…
Ленка отогнула рукав кофты, полюбовалась старенькими материными часиками.
— Нет, до звонка еще много. Да мне идти-то — одно название. У тебя капли еще есть? Кардиамин этот?
Баба Груня посмотрела на свет опустевший флакончик и призналась, что эти были последние. Но тут же нашлась:
— Ничего, ничего, мне уже легче. А там папка твой забежит. Или Сережка Черный… или еще кто… По пути обещали…
— Эх, баба Груня, плохо же ты знаешь наших мужиков! — вскочила Ленка. — Папка мой только ночью возвращается и другие тоже не раньше. Им хоть помри тут — для них уборка главное. Пусть хоть камни с неба падают, а они свои комбайны не бросят.
— Так ведь страда, девка! — вступилась за них баба Груня. — Хлеб же! Тут уж день ли, ночь ли — какой счет!.. Отсыпаться и отдыхать потом будут. Так среди людей от веку было и так будет всегда. Пока хлеб в поле.
— Ну, ладно, — заторопилась вдруг Ленка. — Я пойду. По дороге в школу забегу к бабе Вере и бабе Фросе, может, у них кардиамин этот остался. У нас сегодня суббота, уроков мало, так я сразу — к тебе. Жди и не плачь смотри, ладно?
Ленка убежала, дробно простучав туфельками по ступенькам крыльца.
— Вот егоза, вот егоза, — долго еще повторяла вслед баба Груня. И в самом деле не девчонка уже, школу кончает, хоть завтра под венец. Достанется же кому-то такое счастье.
Оставшись одна, баба Груня снова стала посматривать на портрет мужа, и вспомнились ей те уже бесконечно далекие дни, когда она была молодой, когда пришла наконец во все дома долгожданная Победа, а вместе с ней вернулись в родную Калиновку и земляки-фронтовики. Трое на всю деревню. Из двадцати трех ушедших. Груня тогда уже работала секретарем в сельском совете (поставили за грамотность и хороший почерк) и знала всех поименно — и сгинувших, и живых.
В числе живых оказался и Тимофей. Слегка пораненный, но веселый, громкоголосый, плечистый. Не тот угловатый парнишка, что помнился ей по совместным обозным и прочим мытарствам, а настоящий, теперь уже совсем взрослый мужик — с медалями во всю грудь, под широким солдатским ремнем, в военной гимнастерке с погонами, в крепких кожаных сапогах.
Встречали вернувшихся, как героев. Вся деревня сошлась — пела, плясала, плакала, вспоминала отнятых войной и радовалась чужому счастью.
А через пару дней пришел к ней Тимофей прямо на службу и с порога при всех-то людях весело заявил:
— Ну, Аграфена Филипповна, прощайся со своим девичеством. Вечером сватов зашлю!
И заслал. И вышла она за него. И стала с его легкого почину не просто Груней или Грушей, как звали отродясь, а Аграфеной. Да еще по отчеству — Филипповной! Так с тех пор и звалась она, хоть и не учительница вовсе, и не докторша какая, а простая переписчица сельсоветских казенных бумаг и затем — на долгие годы — бригадир овощеводческой бригады своей пригородной артели «Ударник». Из троих вернувшихся с войны один вскоре перебрался в город на строительство, а оставшиеся — он, ее Тимофей, да еще Фрол Ямщиков с Верхней улицы — с ходу, как волы, впряглись в бесконечную крестьянскую работу. Ничего не скажешь, работящим, трехжильным был ее Тимофей, от любой работы не бежал, будь то конная вспашка, жнейка или трактор. И все у него получалось, все горело в его больших жилистых руках, любое дело делалось весело, азартно, без устали и душевных смут.