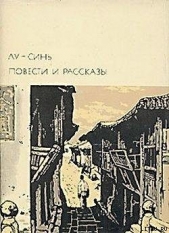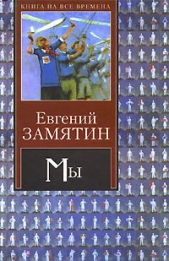Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
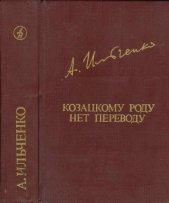
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не мешай! — сердито кивнул хорошенькой москвитянке Михайлик, и, хотя на помосте еще ничего не происходило, он витал уже где-то далеко, уставившись на лицедея, на его мерцающие глаза, словно кот на каганец.
— Сынок? — указав на Михайлика, спросила россияночка у Явдохи.
— Сынок.
— Сердитый.
— Ого! — с гордостью ответила матинка.
Она уж и не пыталась выбраться из скопища. Не добыв сыну ни крошки насущного хлеба, не могла же она лишить его и насущных зрелищ.
А зрелище там было… э-э, нет, такого нам с вами, читатель, никогда и не увидеть.
Надо сказать, мы не имеем даже отдаленного понятия о том, какие зрелища были у нас на Украине в ту неспокойную пору, ибо все это так надежно укрылось — не за дымкой, нет! — а за толстой завесой безжалостного времени, и кое-кому теперь, может, кажется, будто ничего и не показывали зрителям тогдашние украинские лицедеи, ничего, кроме школьной драмы…
Образы той драмы, случайно дошедшие до нас и всем известные по учебникам, были написаны языком, которым никто и никогда в жизни не говорил (кроме спудеев, попов и дьяков), языком книжным, испорченным стараниями церкви, бурсы, канцелярии, потому что и тогда канцелярия портила любой язык никак не меньше, чем теперь.
Вот и дошли до нас, читатель, пьесы тех времен — не по-простому писанные, да и отличались они в большинстве своем риторичностью, пустословием нескладных виршей, вялым развитием действия, чуждыми простому народу страстями и образами, но, ей-богу же, мы уверены, что народу показывали и кое-что более интересное и более действенное, ибо как раз действия, действия острого, современного, всегда жаждали и зрители и актеры.
Случайно не сгорели в пожарах войн и разорений только две реалистические комедийные сценки, понятные простому люду, интермедии некоего Якуба Гавато́вича, остроумные и живые образы пана Стецька и наймита Климка, выписанные языком тогдашнего украинского простолюдина, и никто не станет утверждать, что такими веселыми да живыми были только две эти сценки Гаватовича, будто на Украине люди и вовсе не видели талантливых представлений, народных по языку и содержанию.
Были и такие представления.
Пусть и простые, как зрители тех лет.
Пусть и простоватые.
Пусть далекие от театра тех времен во Франции, Италии или Англии, потому как были мы в ту пору молоды, моложе всей Европы, а каждому народу — свое время, своя пора: расти, цвести, мужать иль увядать…
Когда расцветали науки и искусства на Востоке, мир еще не знал культур античных. Когда столь блестяще расцвели силы эллинов и римлян, еще и мысли не было о высоком взлете недавних варваров — германцев, франков, ангелян. А мы, восточные славяне…
Мы — самые молодые. Младая кровь!
И только!
А молодость… ей-богу, это не так уж плохо, потому — будущее для нас!
Возможно, это был театр импровизации, как в Италии или во Франции тех времен, когда сценическое произведение каждый раз пересоздавалось заново во время исполнения, когда актеры, заранее условившись о развитии сюжета, о фабуле и интриге, создавали по ходу представления все то, что произносили с подмостков, легко развивая игру, на которую вызывали и партнер, и тогдашний простонародный «партер», то есть бесхитростные зрители, которые на базаре могли выстоять под солнцем или дождем не один час, затаив дыхание, плача и смеясь.
Да, да, да: плача и смеясь!
Ибо, дело известное, любил наш народ своих щедрых лицедеев, хоть актеров тогда в государстве и среди панов не очень-то уважали.
Хоть и звали их тогда как вздумается: лицедеями, штукарями, вертоплясами и даже шутами.
Хоть и не было тогда на базарных подмостках ни заслуженных артистов (одни только народные), ни титулов, ни почетных наград, ни служебного высокомерия.
Хоть и не знали тогда на открытых подмостках ни навеса, ни декораций, построенных или написанных, ни искусственного света, ни богатых одежд, ни раскрашенных лиц.
А было только слово.
Только движение.
Только глаза актера на выразительном лице.
И сердце.
И вдохновение.
Чтоб трогало до слез, до смеха, даже до смеха сквозь слезы, ибо только человеку среди всех живых создании свойствен смех, и чем больше человек смеется, тем больше он становится человеком.
Вот и смеялись зрители, и плакали, ибо верили в правду того, что им показывали лицедеи на базарных подмостках.
Ибо и сами лицедеи в то верили, подлинные мастера своего трудного дела.
И впрямь то дело было не из легких.
Актер тех времен бойко балагурил, отвечая на любое движение, на любое восклицание, на любой вздох зрителя, чтобы при случае наговорить с три короба смешных и забавных пустяков, но с той святой сдержанностью, с той мерой, когда всего бывает на подмостках не мало и не много.
Лицедей тогда умел подхватывать диалог, чтоб вести сюжет дальше и дальше самосильно, без готового текста, если и впрямь то был порою театр импровизации, самый что ни на есть народный театр, и актер тех времен получал, пожалуй, в том свободном действе радость немалую, ибо повторять бесконечное количество раз что-либо готовенькое — не так уж приятно в сравнении с творческим восторгом непосредственной импровизации.
Актер театра, где зрительный зал не ограничивался ни стенами, ни кровлей, и телом своим умел владеть, как бандурой или скрипкой, а бандурой или скрипкой — как собственным телом. Он был плясуном, акробатом, жонглером, подражателем, блестящим мастером перевоплощения и, конечно, выдающимся певцом.
Тогдашний актер — без грима, без искусственного освещения, без театрального костюма, на голых подмостках, — само собой разумеется, был и сильным, и красивым, и голосистым, и ловким, и неутомимым, ибо все представление вели трое-четверо-пятеро — этак-то! — и все это нужно было актеру только затем, чтоб добиться успеха у простолюдья, у зрителя нехитрого, но взыскательного, успеха, который им был необходим он как!
Успех был желанным, как хлеб.
Ибо это и был хлеб: без успеха — есть было бы нечего. Вот так-то!
Вот так и жили. И, как мы теперь сказали бы, творили.
На базаре!
В этой народной академии, единственной тогда академии искусств.
Бродячие лицедеи, все лето слоняясь по городам и селам, зимой учились в «киевских Афинах», в подлинной Академии, которая стала в ту пору светочем науки для всего восточного и южного славянства и в то время уже воспитывала не только богословов, но и математиков, астрономов, ботаников, ученых, что возвеличивали славу всей Славянщины.
В этой-то Киево-Могилянской Академии спудеи и показывали свои школьные представления, а иные, более шустрые, чтобы заработать на хлеб, пускались на время летних каникул в далекие и небезопасные странствования по неспокойной Украине, заходя порой на просторы Белой и Великой Руси.
А что же они могли показать голытьбе, ремесленникам и гречкосеям, наймитам и крепостной челяди — своим зрителям, эти бродячие комедианты и штукари?
То, что по праздникам они представляли у себя, в киевской Академии?
Нет, конечно!
Тут нужен был не школьный, не книжный, не мертвый язык, а язык человеческий, понятный на Украине простым и непростым зрителям. Родная речь! Язык простого люда. Живой и неисковерканный.
Во многих книгах, и в церквах, и в школах, и в быту неустойчивой части тогдашнего панства (которое порой легко ополячивалось и окатоличивалось), и в обиходе живучего репейного племени писаришек — всюду, кроме тьмы-тьмущей простого люда Украины, народный язык претерпевал небрежение и уродование, приходил в упадок от натиска иноземщины (польской, немецкой, мадьярской, турецкой), от поповской замысловатости, от канцелярского омертвения…
И бродячие лицедеи — не только потому, что любили они свою родную речь, а еще и потому, что им ведь нужно было привадить зрителя, — чтоб заработать на хлеб! — вынуждены были прежде всего обратиться к языку народа, к слогу мужицкому, к соленой козацкой шутке, — и не она ли это, не родная ли речь, приводила на представления весь мирославский базар, живая струя украинского языка, сверкающего всеми красками и переливами даже в устах киевских спудеев, испорченных греческой, латинской и церковной книжностью, не сила ли простого человеческого языка, который выстоял в веках и на котором так весело, отбрасывая всяческие школьные и канцелярские правила, очень просто болтали эти бродячие лицедеи?