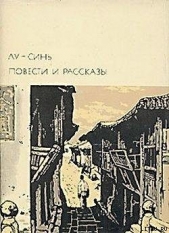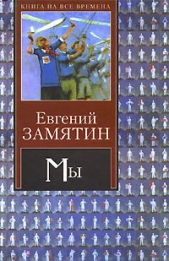Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
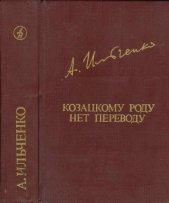
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Погруженная в думы, Лукия ничего не видела и не слышала, упершись взглядом в одну точку, и какой-то веселый парубок, проходя мимо, крикнул:
— Залатай-ка горшок, девонька!
— А ты его сперва выверни наизнанку, — спокойно отвечала Лукия, — с лица кто ж латает!
Достав из узелка горшочек с кашей, кусок сала и горбушку хлеба, Лукия собралась было обедать, но и про еду забыла, затем что все думала и думала о своем Мамае, о коем слуху не было чуть ли не от самого рождества, и тосковала о нем, и сердилась, и про себя разговаривала с любимым… А тем временем у нее о чем-то спрашивал круглый, как тыква, степенный толстяк, вырядившийся по такой жаре в добрую смушковую шапку, в толстенный кобеняк [13], юфтевые чеботы с новыми головками, — он держал за повод годовалого бычка, видимо купленного на убой.
— А макитры у тебя крепкие, девка? — спросил он, недоверчиво поводя лисьим носом, который казался чужим на его круглом лице, весьма напоминавшем пана Пампушку, хотя сей толстяк и не был пану обозному ни родичем, ни даже соседом. — Крепкие? Или нет?
— Что орехи, — вежливо, как всегда, отвечала Лукия.
Но хвалить товар не стала, и это показалось толстяку подозрительным, ибо он держался старых понятий: хоть плохой товар, только б хваленый.
— Так это ж, я вижу, горшки, — подумав маленько и постучав по ним кнутовищем, заключил он.
— Горшки, — учтиво подтвердила Лукия.
— А мне, пожалуй, нужна хорошая макитра.
— Вот и макитры, — кивнула дочь гончара на гору здоровенных горшков, сложенную умелыми руками отца в несколько рядов еще с вечера.
— Мне — самую большую.
— А вот и самые большие, — обернулась Лукия к макитрам, годным разве только для панской пасхальной опары, таким огромным, что в каждой мог бы спрятаться добрый козак.
— А побольше нет?
— Нет, дяденька.
— А где получше? — недоверчиво спросил он.
— Все одинаковы, — равнодушно ответила Лукия.
— Которые получше? — упрямо домогался толстяк. — Верхние или нижние?
— Одинаковы все.
— Почему ж ты нижние спрятала в самый низ?
— Где-нибудь надо ж было их поставить.
— Так вытащи мне снизу.
— Зачем это?
— А затем… коли они такую тяжесть выдержали, то, стало быть, крепкие! А если крепкие…
— Возьмите сверху.
— Нет, только снизу, дочка, — не выпуская повода с привязанным бычком, требовал покупатель.
И Лукии пришлось-таки, переставляя тяжеленные глиняные горшки, достать самую крепкую макитру снизу.
— Хороша ли? — с нарастающим недоверием допытывался покупатель, потому что Лукия своего товара все-таки не хвалила.
— Какая есть, дяденька, — равнодушно отвечала дивчина.
Взяв макитру, добытую чуть ли не с самого дна базарного моря, толстяк опять заговорил, чем-то напоминая пана Пампушку-Кучу-Стародупского:
— А ежели хорошенько хватить по ней кнутовищем, не треснет?
— Зазвенит, что колокол.
— А если кулаком?
— Кулак заболит.
— А коли ахнуть дубиной?
— По макитре — дубиной?!
Толстяк замялся:
— Жинка, вишь, у меня в Киеве до того прытка, не разбирает: что попадет под горячую руку, тем и запустит, тем и грохнет. По макитре так по макитре. По голове так по голове.
— Строгая, — подбрасывая в руке щербатый горшочек, неласково усмехнулась Лукия.
— Зато весело: жинка в меня запустит кринкой. Попадет — радуется. Не попадет — радуюсь я… — И, помолчав, опять спросил: — Так что ж, ежели палкой, треснет? Вот эта макитра? Треснет она или не треснет?
— Треснет, дяденька, — грустно призналась Лукия.
— Это плохо, сердце мое.
— Плохо, дяденька.
— А такой, чтоб не треснула, нет у тебя?
— Нету.
— А мне надо, — почесал затылок толстяк.
— Поищите еще где, — с недобрым взглядом, недвусмысленно играя щербатым горшочком, посоветовала дочь гончара.
— Найду ли?
— Мне хочется, — рассердилась наконец Лукия, — попробовать: треснет ли этот горшочек, если я запущу его кому-нибудь в голову? — И прибавила: — Дома вы, дяденька, сами говорите, тюфяк тюфяком… но почему ж вы здесь такой настырный?
— Потому, что из духовного звания, — ответил дяденька так, словно это была обычная шутка, которую он повторял уже не раз. — Я из духовного звания.
— Как это? — удивилась Лукия.
— У попа гречку молотил прошлым летом! — отвечал толстяк без тени улыбки и с такой непринужденностью, как это умеют разве что штукари да лицедеи, привыкшие смешить людей даже тогда, когда им самим бывает не больно весело, и только этим он и разнился от пана Пампушки, коему бог не дал ни крохи юмора. — И отчего ты такая сердитая? — И шевельнул редким щетинистым усом. — Не оттого ли ты и худющая, что не в меру злющая?
Но Лукия так свирепо глянула на него, что он со своим белолобым бычком на поводу двинулся было прочь, пока тот щербатый горшочек не ахнул его по голове, но тут же вернулся и мягко попросил:
— Продай макитру, какая есть.
Лукия молчала.
— Ты слышишь?
Лукия отвернулась.
— Эй, серденько мое!
Лукия вызверилась:
— Для того я лепила эту посудину, чтоб вы по ней — палкой? Грех, дяденька! Идите, идите!
И толстяк, не вытерши холодного пота под смушковой шапкой, таща на поводу своего бычка, поспешил к соседним гончарам, затем что все-таки должен был купить хорошую макитру.
Михайлик смотрел на все без тени улыбки.
А Явдоха вслед этому дядьке весело захохотала, как то хорошо умеют делать наши украинские матери.
Дочь гончара снова тяжко задумалась, забыв и про свой обед, и про покупателей, и про Явдоху, что остановилась с сыном возле ее глиняной посуды.
Лукия и впрямь ловко управлялась со своим делом. Отвечала покупателям и ротозеям, по-божески спрашивала цену, спокойно бросала в надтреснутый кувшин полученные деньги, ибо люд простой в те поры торговался только с пришлыми чужеземцами, которые заламывали бог знает какие цены, приезжая сюда для того, чтобы обманывать здешних простачков, а у ремесленников города Мирослава тогда еще и не пахло этим мерзким торгашеским духом, и лишнего тут не брали.
У гончарного торга толпилось немало любопытных, там было на что поглазеть: расписная посуда сверкала всеми цветами сего и того света, выпуклыми украшениями отделанная, мудреными цветами расписанная, а то и узорами крещатыми, а то и людей, зверей да птиц подобиями, и все это малевали заскорузлые долгопалые руки сердитой дивчины Лукии.
И они же, эти неласковые, натруженные руки гончаровой дочки, множество раз рисовали и любимого ее, всеми гончарами, малярами и художниками малеванного Козака Мамая — на тарелках и кувшинах, даже на изразцах, кои столь искусно обжигал Саливон Глек, прославившись ими и по другим городам и странам наравне с кафелем межигорским, водолазским, черниговским, вышеславским или роменским.
Кроме Козака Мамая — с бандурой в руках, с конем и Песиком Ложкой — были на мирославских изразцах и всякие другие картинки, сделанные рукой дочери гончара.
То какой-то молодой козак рубится с польским панычем на саблях.
То гетман Богдан — на коне, с булавой.
То искусно изображенные женщины: та с цветком, та с кошкой, иная, словно ведьма, с помелом.
А то и волк, хватающий человека за ногу. Рыбак со своей снастью. Татарин на коне.
Были на изразцах Лукии и химерные звери, птицы да рыбы, то вол с рыбьим хвостом, то сом усатый, глотающий человека, то великан с собачьей головой, а то крылатый конь летает в синих облаках, а то и презабавное подобие самого пана Кучи, а внизу подпись: «Велика цаца».
Малевала на тех изразцах, баклагах и кувшинах Лукия, что видела, что знала, о чем мечтала, — что вздумалось, то и малевала.
Дожидалась из Москвы своего названого брата, Миколу Глека, молодого гончарского сына, посланного с письмом к царю, и уже изобразила встречу брата с сестрой после разлуки, и подписала на кафеле: «Братец мой, давно уж мы с тобой не виделись!», и совсем взгрустнулось ей, когда глянула сейчас на этот изразец: придется провожать в Москву теперь и среднего, Омелька, которого она из трех братьев любила больше всех.