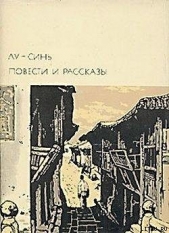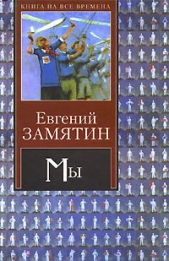Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
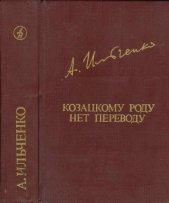
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А я, кажись, никуда и не тороплюсь, — отвечал всякий раз Михайлик и… все придерживал шаг.
— На виселицу захотелось! — подгоняла матинка.
— Да разве я в чем виноват? — простодушно спрашивал Михайлик.
— А слыхал ты, как ее стерегут, эту самую Ярину Подолянку. Ее, говорят, уж три раза выкрадывали.
— И я ее украл бы! — И упрямая складка залегла под губой.
— Ее, говорят, и убить пытались.
— Ну вот видите!
— Что?
— А то, что надо мне быть подле нее.
— Ты разве не слышал, как там горланил тот распроклятый Пампушка: однокрыловец, однокрыловец!
— Вот они и впрямь подумают, что однокрыловец… коли я убегу.
И дальше идти Михайлику было все трудней, даже сам он постичь не мог, какая необоримая сила не дает бежать ему.
Не Подолянка же?!
Он остановился: все в голове пылало, словно в пекле.
Потом сказал:
— Там же остался… Пилип тот!
— Ну и что?
— Надо и мне… — И вспыхнули его соколиные очи.
Застыв на мгновение, Михайлик повернул назад, к Соборному майдану, затем что был он из тех добрых хлопцев, робких и тихих, о коих говорят: телят боится, а быков крадет, — детская, мол, натура.
Его, как добрый конь, несла назад любовь, ибо хлопец еще не понимал того, что любая человеческая жизнь — следствие сладчайшей любви, а каждая любовь — начало горькой жизни, и хотя жизнь эта горькая (от любви) сейчас начиналась, ему почудилось, будто сразу же стал ясен и прекрасен белый свет…
Хлопец поспешал, чтоб хоть на миг увидеть свою любимую еще разок, земли под собою не чуял, словно так ослеп, несчастный, от яда любви, что даже не заметил канавы и со всего разгону ткнулся носом в землю, аж кровь пошла, аж искры из очей посыпались, и все перед ним ходуном заходило, и ему казалось, что летел он в ту канаву слишком долго, а на обратном пути к покоям епископа это ощущение полета не покидало его ни на миг, кружилась голова, и вся земля словно взлетала к небу.
Матиика, чуть не свалившись в ту же канаву, не выпускала, конечно, сыновней руки и едва поспевала за ним, хотя то было и нелегко, ибо чувство полета, что в нем возникло — при первом взгляде на панну Ярину, а не при падении в канаву, — это не оставлявшее его чувство полета и падения влекло ковалика назад к той панне.
И матинка все это ощутила вдруг.
Она опомнилась только в роскошных покоях отца Мельхиседека, куда Михайлик ввалился, как черт в вершу, сам от себя не ожидая такой смелости.
Вдвоем они прошмыгнули почти никем не замеченные и стали в уголке — весьма потрепанные боем, застигшим их посреди степи, в лохмотьях, опаленные козацким солнцем, изнуренные бесприютным житьем.
А рада все еще не кончалась, и Михайлик напряженно слушал, хоть Ярина Подолянка была еще здесь, и хлопец, не замеченный ею, не сводил с панны жгучего взгляда, и упрямая складка, ныне появившаяся у нижней губы, становилась все приметнее и резче.
Рада еще не кончалась, но речь пошла уже о каких-то других делах, порожденных также исступлением войны.
— В душе народа — темная ночь! — взвывал к громаде Пампушка. — А там, на базаре, я сам видел, представляют комедию какие-то бродяги, странствующие лицедеи, приведенные из самого Киева. А привел их сюда Тимош Юренко, прозванный в народе Прудивусом, то есть Усачом, — сынок весьма почтенного цехмистра гончаров…
Саливон Глек-Юренко побагровел, оттого что сына-лицедея весьма стыдился и не терпел, когда поминали имя Тимоша.
А пан Пампушка, видя, как Саливона Глока бросило в жар, продолжал не без удовольствия:
— Я попытался было, панове, сие непотребство на базаре пресечь, ибо шуточки во время войны…
— И что же?
— Голытьба меня чуть не побила…
— Жаль, что не побила! — язвительно сказал кто-то из-за окна.
— О чем ты просишь раду? — осведомился Мельхиседек.
— Властию вам данной, пресвятой отче, — смиренно молвил пан Пампушка, — надобно сне позорище пресечь. А тех бродячих лицедеев — прочь!
— Это почему же? — встав подле своего дядюшки, удивленно и тихо, но так, что все услыхали, спросила панна Подолянка.
— Почему же? — спросил и сам епископ.
— Во время войны кому нужны лицедеи? Их кормить надо. А хлеба-то у нас… того… Некому печь! Негусто и муки.
— А пшена?
— Еще меньше. Некому просо рушить.
— Сала?
— Почти нет.
— А мяса?
— Нет вовсе. Война!
— Чем же ты кормишь козаков?
— Если кольцо осады замкнется-таки, встанет над городом призрак голодной смерти, владыко.
— Пороха-то имеем вдосталь?
— Ни серы, ни селитры!
— Сабли? Рушницы? Пики?
— Ковать некому, ваше преосвященство. Меди и железа тоже нет.
— Медь завтра будет, — вздохнул Мельхиседек.
— Откуда?
— Завтра снимем колокола, — как бы отважась на трудный шаг, тихо произнес Мельхиседек.
— Какие колокола? — отшатнувшись от владыки, спросил Саливон Глек, цехмистр гончаров, слывший в Мирославе лучшим звонарем.
— С церквей… Какие же!
— Вот как! — простонал старик Саливон, однако больше не сказал ничего.
Зато Пампушка снова почувствовал себя на какое-то мгновение православным, преданным вере отцов, а не тайным католиком.
— Не дам! — сказал он. — Не дам колоколов. Покарает вас бог!
— Гляди, чтоб он тебя самого не покарал. Чем будешь людей кормить?
— Их накормишь! Невесть откуда все прутся в Мирослав. Слоняются без всякого дела. А жрать им подавай!
— Почему слоняются? Почему без дела?
— Дармоеды, — пожал плечами Пампушка.
— Так-таки все и дармоеды? Все?
— Как один.
— А я? — неожиданно спросил Михайлик, ибо чувство полета не оставляло его и тут, а нос после падения совсем распух, и парубок вовсе не думал, куда летит. — А я? — настойчиво повторил он, не услышав ответа на свое удивленное восклицание. — А я?
— Что́ — ты? — опять узнав парубка, спросил Пампушка.
— Я ж вот — не дармоед, — отвечал Михайлик.
— Ага, не дармоеды мы, — с достоинством подтвердила и матинка.
— Кто же вы? — спросил пан Хивря.
— Ковали мы, — глянув искоса на Ярину, степенно отвечал Михайлик.
— Что ж вы слоняетесь? — удивился Мельхиседек.
— Негде жить, — тихим баском буркнул Михайлик.
— Нет и работы, — вздохнула матинка.
— Ковалям нет работы? — удивился владыка. — Во время войны?
— Кто ж будет ковать оружие? — спросил и гончар Саливон Глек.
— У вас, в Мирославе, тридцать две кузни, но никто нам работы…
— Тридцать две кузни? — насторожился пан Пампушка. — Ты откуда знаешь — сколько? — И кивнул Мельхиседеку — Это все-таки однокрыловец!
— И нигде не нашлось для вас работы? — отмахнувшись от обозного, спросил епископ.
— И не найдется! — в своем стремительном любовном лёте, забывая о сдержанности, обязательной для младшего перед старшим, резко сказал Михайлик. — Работа есть только для ваших, для здешних, для цеховых. У вас, в Мирославе, пришлого ремесленника даже в челядники не возьмут.
— Таков уж порядок, — объяснил цехмистр ковалей Ткаченко.
— Порядок?! — вспыхнула матинка. — Ни ладу, ни порядка. Бестолочь! И оружия у вас тут — не густо!
— Пришлые портняжки да сапожники без дела слоняются, а сапог не хватает, — рассердился Михайлик. — Да и кони не кованы!
— И хлеба на базаре маловато, — прибавила мама.
— А в городе, — подхватил Михайлик, — полнехонько бездомных пекарей и мельников, бондарей и каретников.
— Мясников и пивоваров, — продолжала Явдоха, — седельников, кожевников и плотников, угольщиков и колесников…
— Их у вас и людьми не считают, — сердито добавил Михайлик. И сказал — Я думаю, панове горожане, что вы должны немедля…
И только тут молодой коваль заметил, что матинка дергает его за латаный-перелатаный рукав.
И хлопец умолк, глянув на свои лохмотья, такие драные, что раку там уцепиться не за что было, и смутился.
— Вестимо, должны! — подхватил последние слова Михайлика отец Мельхиседек. — Вам следует, панове цехмистры, обнародовать сразу, что, на время войны хотя бы, в цехи вы будете принимать всех.