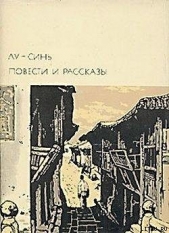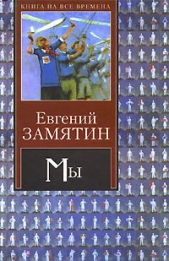Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
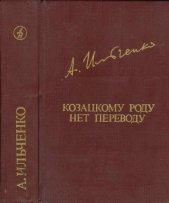
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Главенствовал на этой раде сам достопочтенный владыка, епископ, то есть архиерей, строгий хозяин дома сего, бывший воспитанник киевской Академии, слывшей в те поры светочем науки для всего православного мира, затем — чернец, нареченный при посвящении в иерейский сан отцом Мельхиседеком, а ранее хорошо-таки известный на Украине под именем полковника Миколы Гармаша, смолоду на Сечи прозванного Голоблею, то есть Оглоблей.
Это был человек заметной стати и красоты, той красоты, какую можно было бы назвать истинно козацкой, может и грубоватой, и порою чуть резкой, но мужеством своим и горящими глазами выделялся запорожец даже в большом многолюдье.
Хоть и не осталось на его макушке первейшего украшения козака — запорожской чуприны, оселедца, но светлые и пышные волосы кудрявились, словно у парубка, еще не стриженного в козаки, а свойственной возрасту седины в русых прядях никто не замечал, и трудно было сказать про этого белоуса — то ли сед он, то ли просто уродился таким белокудрым.
Его большие черные очи казались еще больше, как то бывает у людей со светлым чубом и бровями, в сей миг эти очи казались еще чернее, потому как на лбу владыки белела полотняная повязка, на коей уже проступила кровь от раны, полученной во вчерашнем бою у северной крепости.
Под окровавленной повязкой его глаза горели неутолимым огнем, и недаром же многие в городе Мирославе побаивались взгляда этих глаз, и даже люди с вовсе незначительными провинностями начинали клясть прегрешения свои, ибо уверены были, что, греха вкусивши, утаить его не удастся, потому что глаза владыки всё добудут с самого дна души — безо всякой исповеди.
Владыку боялись.
Однако и любили.
И верили ему.
И то, что сейчас его черная ряса была перехвачена ременной перевязью, да и сабля на боку болталась у преподобного, никого не удивляло, а даже радовало, что встал во главе обороны города владыка их духовный, которого бог не обидел ни умом, ни военным талантом.
Поповского духа у отца Мельхиседека было не с лишком, ибо не стал он святошей и к каждому словечку не присовокуплял мудрости Святого писания, как то водится меж учеными попами да архиереями, а делал сие в меру, и большинство защитников города, собравшихся тут, в покоях владыки, и люди, стоявшие на Соборном майдане, под окнами дома, и те, что там где-то, у Теслярской башни, на северной окраине Калиновой Долины, ждали нападения врага, — все они верили не только в его доброе сердце, но и в ратную доблесть епископа, как верили в свое святое дело, верили в победу правды.
Вот почему столь многолюдно и столь тихо было тогда на Соборном майдане, у дома епископа: меж бревенчатой, о девяти куполах, церковью и каменным двухъярусным домом Мельхиседека, казалось, маковому зернышку упасть было негде.
Даже на соседних крышах, деревьях, заборах, да и под самыми окнами дома владыки набралось видимо-невидимо слушателей и зрителей (а среди них, известное дело, и гетманских проныр), затем что в городе в те дни народу, в общем, прибавилось, слонялось уж по улицам немало и бездомных, коим и ночевать-то приходилось где попало, ибо, как мы уже о том говорили, все в тяжкую годину искали по городам Украины, а то и России убежища от всякой военной напасти.
Сквозь открытые окна в дом заглядывали охочие послушать раду — козацкая голытьба, челядь ремесленников, школяры, спудеи — сиречь студиозусы, монахи, торговцы, женщины, дети.
Порой подымался на майдане гомон, но те, кто был у самых окон, шипели и цыкали на задних, а те — на стоящих дальше, и гам снова и снова утихал, ибо каждому понятно было, что мешать в столь важном деле не следует, да и хотелось всем поскорее узнать, что́ затевается там, на той широкой раде.
Люди, притихшие у окон, сосредоточенно внимали каждому слову.
И тут же всё шепотом передавали тем, кто стоял, ожидая, у них за спиной.
А те — дальше и дальше.
И Соборный майдан, и весь Мирослав, да и вся Долина мигом узнавали — кто и что сказал в покоях владыки.
А это ведь надобно было знать каждому, ибо в покоях владыки уже завязывался спор: отец Мельхиседек, у бога многомилосердного моля терпения, угрюмо спорил с паном Демидом Пампушкой, коего ясновельможный гетман, во внимание ко всем его заслугам и услугам, дня три тому назад, когда Козак Мамай был уже в темнице, милостиво отпустил в Мирослав.
Пампушка-Стародупский и владыка спорили, а все, почитай, кто был там, пособляли своим словом разгневанному мирославскому владыке, духовному отцу и военачальнику.
Опершись у стола на резной, черного арабского дерева аналой, — он привык разговаривать стоя, — отец Мельхиседек, до сих пор не избавившись от прежних запорожских повадок, обращался к мирянам с такими от сердца словами:
— Послушайте меня, старого пса, братчики, что я скажу вам: снова придется слать письма о помощи.
— Кому? — спросил Пампушка-Стародупский.
— Кошевому на Сечь.
— Посылали уже, — возразил Пампушка.
— Аж три! — добавил тонюсеньким голоском реестровый сотник Хивря, неугомонный злоехида, еще не старый, опрятненький и весьма женоподобный человечек. — Аж три письма!
— А где они? — спросил епископ. — Однокрыловцы хватают наших гонцов. Придется снова слать бумаги: еще и по городам, ко всем полковникам, кто верен Украине. Да и писать московскому царю…
— Про что писать? Про то, что царь должен ведать и сам?
— Про все! Про то, что пан Гордий Гордый, генеральный писарь Войска Запорожского, отрубил в Киеве, в Гадяче, в Черкассах головы двум десяткам козацких военачальников, самозванно объявил себя ясновельможным и, захватив знамена, булаву, клейноды и казну покойного нашего гетмана, нарушил присягу, данную и Москве.
— Про это мы царю уже писали! — выкрикнул Пампушка.
— А теперь, — словно и не слыша, продолжал архиереи, — клятвопреступник с панами-ляхами, с наемными сынами Европы да с ордами Карамбея о сорока тысячах крикливых крымчаков, белогородцев и ногайцев разоряет села и города Украины, подступил уж и к нам, чтоб захватить несметные сокровища, когда-то и где-то сокрытые в Калиновой Долине запорожцами, сокровища, кои позволят Однокрылу купить в Азии и Европе такую рать, что не устоим против нее — ни мы, ни ты, пресветлый царь, когда он двинется и дальше, на Москву. А если он, захватив Мирослав (хотя мы во храме всем миром крест целовали — не сдаваться ворогу живьем), двинется и далее, к Путивлю, где твои бояре с войском отаборились, а к нам зачем-то не идут, дабы их истребить, — чтобы затем и за тебя приняться, царю наш, на Москве…
— Все то же, что в трех ранее отосланных письмах! — вырвалось у Пампушки.
— Не в трех, а в четырех уже! — поправил его женоподобный сотник Хивря, и его тоненький голосок был звонок, как бывает у молодой на второй день свадьбы. — Да, в четырех!
— Вот видите, — обрадовался пан Куча. И добавил — Да и про наши сокровища писать не стоит. То ли есть они, то ли нет их… кто знает! А царь спросит: где они?.. Неосмотрительно!
Но владыка, как бы не слыша остороги, продолжал:
— И вот… идя супротив Москвы, сей черный лебедин разоряет наши села и города. Пылает Украина. Но наперехват клятвопреступнику, дабы преградить ему путь на Москву, оружно встают посполитые обоих берегов Днепра. Так спасай же нас, царю! Спасай нас и себя… Вот так и напишем ему, царю московскому!
— А царь подумает, ваше преосвященство, что мы тут испугались, — снова забеспокоился Пампушка.
— Подумает! — живо подхватил тот самый Хивря, румяный, щекастый, как пожилая тетка, длинноносый и безусый, с жиденькой чупринкой, с большущими синими глазами, глядевшими на все с укоризной, нелепый сотник, о коем все знали, что он обабился (дома он за милую душу месил тесто, доил коров, прял и шил, а то хаживал и за бабку-повитуху, ибо и в том деле знал толк, за что его и прозвали Хиврею), да и впрямь он больше походил на какую-нибудь пожившую святошу, чем на бравого реестрового сотника. — Подумает, что испугались, — повторил пан Хивря, — да за шкуру нам сала и зальет… еще поболе, чем теперь! — И он нагло вытаращил глаза на царского воеводу Савватея Шутова, сидевшего у стола бойкого старичка, боярина, издалека прибывшего сюда, дабы в меру сил поднажиться, и прилагавшего к сему делу немалые старания, а занимали его в Мирославе не люди, не правда, а шинки и барыши от горилки, что весьма беспокоило и пана Хиврю, который держал в Калиновой Долине до прибытия сюда воеводы Шутова десятка два шинков. — Зальет нам царь за шкуру сала, вы не думайте.