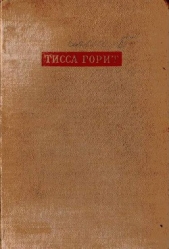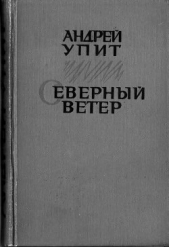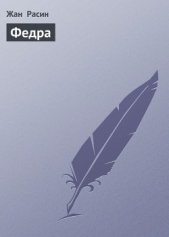Когда мы состаримся

Когда мы состаримся читать книгу онлайн
Роман классика венгерской литературы Мора Йокаи (1825–1904) посвящён теме освободительного движения, насыщен острыми сюжетными ситуациями, колоритными картинами быта и нравов венгерского общества второй половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
III. Мой высокородный дядюшка
(Из дневника Деже)
На обед мы были званы к надворному советнику Бальнокхази, у которого брат должен был жить.
Приходился он нам каким-то дальним родственником, хотя за содержание брата мы независимо от того платили семьсот форинтов: приличная сумма по тем временам.
Лоранд у надворного советника остановился! Вот что мне больше всего льстило. И я не упускал случая присовокупить, когда одноклассники спрашивали, где я квартирую: я, мол, у «одного пекаря», Фромма, а брат — у надворного советника.
Почтенный пекарь искренне огорчился, узнав, что мы обедаем не «дома». Меня бы оставили, по крайней мере. Каюсь: я чуть не остолбенел от подобной дерзости, так и впившись в него взглядом василиска. Как? Ради него от обеда у надворного советника отказаться?
Бабушка тоже считала, что и меня надо представить.
В половине второго послали за фиакром: пешком не подобает являться к надворному советнику.
Бабушка надела мне под жилетку вышитую манишечку, и я в своём тщеславии позволил моей курносой знакомке даже повязать мне галстук. Насколько можно было судить, глядя в зеркало, бантик у неё получился преотличный. А в атилле [48] с серебряными пуговицами я и совсем красавец. Ещё бы только волосы подвить!
Но всё равно другой такой атиллы в городе ни у кого нет в этом я был уверен.
Одно лишь меня раздражало: и чего эта курносая пигалица вокруг меня увивается! Уж и так ластится, и этак, не скрывая, что я нравлюсь ей — и не видя, как задевает это моё самолюбие!
А внизу лестницы поджидал шутник Генрих с большущей щёткой в руках, уверяя, будто я весь в муке и меня надо непременно почистить. Это, наверно, с Фанниного передника, он всегда у неё в муке. Я уступил, прося об одном: не трогать воротник, он бархатный, его нельзя жёсткой щёткой чистить.
Надо полагать, мне не совсем было безразлично, что у моей атиллы бархатный воротник.
А когда мы усаживались в пролётку, ещё и старикан Мартон крикнул вдогонку мне из дверей булочной:
— Бон аппетит, [49] герр вице-губернатор!
И пять-шесть раз подвигал взад-вперёд своим пекарским колпаком.
Дать бы ему по носу хорошенько! Чего компрометирует меня перед старшим братом? Не понимает, что с прилично одетым так не разговаривают: небось я не в нижней рубахе. Эх, сам виноват, не того ещё дождёшься, только поведись с этими хлебопёками…
Но не будем больше о моих хозяевах, перенесёмся в сферы более высокие.
Фиакр остановился неподалёку от Дворянского собрания, у трёхэтажного дома, где проживал надворный советник. Дворовый — виноват, лакей — уже поджидал нас (а может, и не нас) внизу у ворот и указал комнату брата — тут же, на нижнем этаже. Помещение вполне подходящее для взрослых школяров, не любящих слишком пристального надзора.
Оттуда повёл он нас на лестницу, с лестницы — в сени, из сеней — в переднюю, из передней — в салон, где принимали гостей.
Я-то думал, что мы и сами живём роскошно, сами — настоящие господа. Но в доме Бальнокхази почувствовал себя последним бедняком. Наша гостиная, с обитой цветастой материей мебелью, с приятно-желтоватыми шкафами черешневого дерева и чистыми белыми занавесками, ещё недавно казалась мне очень элегантной. Но как пала она в моём мнении при виде этой, где вся мебель была полированная, с красивыми прожилками, обивка — плюшевая с тиснёным узором, а портьеры — штофные с широкой кружевной каймой. У нас стены тоже были Украшены гравюрами под стеклом; но здесь висели великолепные картины маслом в золочёных рамах. И ковры… У нас только в маменькиной спальной был один, а тут — все полы ими застланы, будто По Цветущему лугу идёшь.
Всё это не сказать чтобы подавило меня, скорее раздразнило: а почему и мы не можем так же? Тоже ведь могли бы купить. Имение и у нас немаленькое — а всё-таки совершенно иное дело, когда у тебя под ногами пёстрые ковры.
Но высшего предела достигло моё подобострастное изумление с появлением хозяев дома.
Вышли они к нам из трёх разных дверей.
Из средней, напротив, которая вела в кабинет, — сам его благородие дядюшка; из левой, из горницы, — её благородие тётенька; из правой, из своей комнаты для занятий — сестрица моя, барышня Мелани с гувернанткой.
Советник был статный, высокий, плечистый мужчина. Чёрные брови, румяное лицо, чёрные как смоль усы пиками и полукружье: бакенбард полностью довершали тот идеальный портрет надворного советника, который уже сложился в моём воображении. Волосы у него тоже были чёрные, надо лбом — по всем правилам подвитые.
Он радушно, приятным, звучным голосом поздоровался, поцеловав бабушку, а нам протянув руку. Лоранд пожал её, я приложился к ней с дядюшкина соизволения.
А перстень какой огромный бирюзовый!
Потом подошла тётенька. Смело могу сказать, что не видывал с тех пор женщины красивее. Было ей тогда двадцать три года, это я точно знаю. Сохранявшее всю свежесть юности лицо в белокуром овале волос казалось почти девическим. Впечатление поддерживали улыбчивые губки и большие, мечтательные синие глаза, затенённые длинными ресницами. Двигалась она легко, плавно, словно не ступая, а паря, и протянутая мне для поцелуя ручка была нежно-прозрачной алебастровой белизны.
Ну а сестрица, Мелани, была просто ангелочек. Поистине неземное создание явилось моему взору. Трудно даже представить себе что-либо более обворожительное, утончённо-идеальное.
Было ей не больше восьми лет, но по росту можно бы дать и десять. Стройная, с ножками столь миниатюрными, что и правда чудились крылышки за спиной, которые незримо её переносят. Личико с тонкими, благородными чертами, глазки умненькие, сияющие, а ротик — чего он только не умел! Не только изъясняться на четырёх-пяти языках. Эти детские губки были столь выразительны, что без единого слова сводили меня с ума. Они и улыбаться умели мягко, поощрительно, и поджиматься надменно, и дуться обиженно, укоризненно. Умели безмолвно приказывать и отдаваться мечте, одушевляться, любить и ненавидеть.
Сколько, о, сколько раз грезился мне этот ротик во сне и наяву; сколько головоломных древнегреческих слов я заучил, непрестанно думая о нём.
Трудно даже описать обед у Бальнокхази, на котором я присутствовал: всё моё внимание сосредоточилось на сестрице Мелани, сидевшей со мною рядом.
С какой светскостью она держалась, сколько изящества было в каждом её движении! Я только и знал, что следил за ней, стараясь сам запомнить и перенять. С грацией неподражаемой, далеко отставляя мизинчик от безымянного пальца, брала она ложечку или серебряную вилку. А как губки вытирала салфеткой после очередного блюда! Феи не целуются воздушней с облаками.
И каким же, каким бесконечно глупым и неловким казался я себе рядом с ней! Руки дрожат, едва потянешься за чем-нибудь. Одна мысль, что выроню, чего доброго, ложку и соусом, не дай бог, обрызгаю её белое муслиновое платьице, повергала меня в трепет.
Она же, казалось, меня не замечала. Или, напротив, очень хорошо сознавала, что вот существо, которое ею околдовано, заворожено, порабощено. До того грациозно отказывалась, стоило только что-нибудь предложить, до того вежливо благодарила, если дольёшь ей стакан.
Вообще мной никто особенно не занимался. Неблагодарный возраст для мужчины, ни то ни сё; всерьёз принимать — недостаточно велик, забавлять — недостаточно мал. И хуже всего, что сам это понимаешь. Отсюда страстное желание всех двенадцатилетних: поскорей бы вырасти, стать большим!
Хотя теперь я всё повторяю про себя: остаться бы лучше маленьким, двенадцатилетним.
Но в ту пору мне это было в тягость. Слишком долго ждать, пока вырастешь!
Только под конец обеда, когда и маленьким позволено было налить по рюмке сладкого вина и прихлёбывать, макая туда сухарик, я привлёк к себе внимание, хотя довольно странным образом.