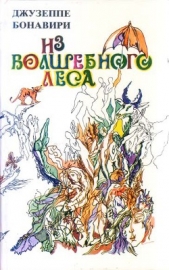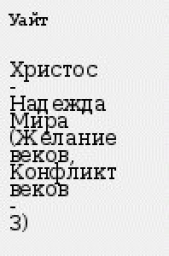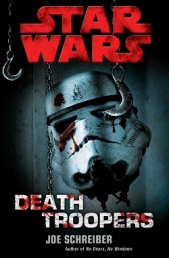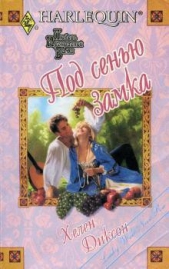Золото короля

Золото короля читать книгу онлайн
«…Совсем рядом грохнуло и сверкнуло — зная, что у его людей только холодное оружие, Алатристе кинулся туда, откуда стреляли, рубя вслепую Кто-то схватил его за руки, он сбил нападавшего с ног и с ним вместе повалился на залитую кровью палубу, ударил противника головой раз и другой, почувствовал, что рука, держащая кинжал, свободна, и просунул его между собой и фламандцем Тот вскрикнул, ощутив режущее прикосновение, на четвереньках метнулся прочь Алатристе перекатился в сторону, и сейчас же на него грузно свалилось чье-то тело, раздались причитания по-испански „Пречистая Дева, Иисус-Мария“. Он не знал, кто это, а выяснять времени не было Выбрался из-под него, вскочил на ноги, со шпагой в одной руке, с кинжалом — в другой, огляделся и увидел, что мрак редеет и высвечивается розовым Крик стоял вокруг ужасающий, и нельзя было ступить шагу, чтобы не поскользнуться на крови»
Четвертая книга многотомной эпопеи знаменитого испанского писателя Артуро Переса-Реверте «Капитан Алатристе», в которой наш герой захватывает галеон с золотом колоний, его юного друга Иньиго Бальбоа завлекает в смертельную ловушку поцелуй роковой красавицы Анхелики де Алькасар, а Гвальтерио Малатеста едва оправляется от сокрушительного удара.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, хорошо, — заключил Ольямедилья.
Он сложил бумаги аккуратной стопочкой, не сводя при этом глаз с Алатристе и всем своим видом показывая: «Я свое дело сделал». В течение нескольких мгновений они молча смотрели друг на друга, затем капитан расцепил скрещенные на груди руки и отступил от стены, сделав шаг к Джеронимо Гараффе. На лице генуэзца отразился неописуемый ужас. Алатристе стал перед ним, чуть склонился и взглянул ему прямо в глаза очень пристально и очень пытливо. Ни малейшего сострадания не вызывал у него этот человек и все, что воплощал тот в себе. Из-под сетки, стягивавшей крашеные волосы, по лбу, по щекам и вдоль шеи текли темные струйки, и кисловатый запах испарины, пробирающей человека в миг смертельной опасности, заглушал теперь аромат притираний и бальзама.
— Джеронимо… — почти шепотом произнес капитан.
Услышав свое имя, прозвучавшее в трех пядях от лица, тот дернул головой, как от пощечины. Алатристе, не отстраняясь, еще несколько мгновений неподвижно и молча смотрел на генуэзца в упор, почти касаясь его носа усами.
— Мне приходилось видеть, как пытают, — медленно заговорил он. — Как подвешивают на дыбу, выворачивая руки и ноги, чтобы человек дал показания на собственных детей. Как заживо сдирают кожу, а он воет, умоляя, чтобы прикончили… Как в Валенсии жгли ступни несчастным морискам, требуя выдать спрятанное золото, а до них доносились крики их малолетних дочерей, которых насиловали солдаты…
Капитан замолчал, будто спохватившись, что таких примеров можно приводить до бесконечности, и продолжать ни к чему. Казалось, рука самой смерти коснулась лица Гараффы — он вдруг перестал потеть, словно под кожей, желтой от ужаса, не осталось ни капли жидкости.
— Поверь мне, рано или поздно все развязывают язык, — договорил Алатристе. — Ну, или почти все. Кое-кто умирает под пытками — если палач попадется неумелый… Но это — не твой случай.
Он еще мгновение подержал генуэзца под прицелом своих глаз, потом выпрямился, повернулся к нему спиной, подошел к столу, не спеша расстегнул пуговицу на обшлаге колета и закатал левый рукав. Встретился взглядом с Ольямедильей, который наблюдал за ним внимательно, но не вполне понимал, что происходит. Взял со стола шандал со свечой и вновь приблизился к Гараффе. Чтобы тому лучше было видно, немного поднял подсвечник, и огонек свечи вспыхнул зеленовато-серым отблеском в его устремленных на генуэзца глазах — неподвижных, как два заиндевевших стеклышка.
— Смотри, — бросил он.
И, придвинув к самому носу Джеронимо Гараффы густо поросшую волосами руку, от кисти до локтя прочерченную узким шрамом, Алатристе поднес пламя к своему обнаженному предплечью. Свеча затрещала, запахло горелым мясом, капитан сжал кулак, стиснул челюсти, и под кожей, словно вырезанная на камне виноградная лоза, проступили напрягшиеся мышцы и сухожилия. Зеленоватые глаза не изменили своего выражения, тогда как глаза генуэзца от ужаса выкатились из орбит. Это продолжалось одно мгновение, показавшееся бесконечным. Затем, как ни в чем не бывало, Алатристе поставил подсвечник на стол, снова повернулся к Гараффе и показал ему свою руку. На побагровевшей коже зиял обуглившийся по краям ожог размером с восьмиреаловую монету.
— Джеронимо… — позвал капитан. Он снова вплотную придвинулся к нему и тихо, доверительно произнес: — Если я сделал это с собой, представь, каково будет тебе.
Желтоватая лужица расплылась по полу между ножками стула. Генуэзец застонал, затрясся всем телом — и это продолжалось довольно долго. Когда же он вновь обрел дар речи, то заговорил горячо и сбивчиво, а счетовод Ольямедилья, часто обмакивая перо в чернильницу, прилежно записывал хлынувшие потоком слова. Алатристе отправился на кухню, чтобы смазать ожог салом или маслом. Перевязав руку чистой тряпицей, он вернулся в кабинет, Ольямедилья же обратил к нему взгляд, который у человека с иным душевным устройством означал бы огромное и нескрываемое уважение. Что же касается Джеронимо Гараффы, то он, утеряв представление обо всем на свете, кроме обуявшего его ужаса, продолжал говорить без умолку, сыпя именами, названиями мест и португальских банков, цифрами, датами и прочим.
В это самое время я шел под сводами длинной арки, ведущей вглубь старинного квартала Альхама. И в точности как Джеронимо Гараффа, только по иным причинам, чувствовал, как оледенела кровь в жилах. Остановившись там, где было мне указано, оперся о стену, ибо ноги подкашивались. Однако, повинуясь развившемуся за последние годы инстинкту самосохранения, я, несмотря ни на что, внимательно оглядел место действия — два выхода и внушающие тревогу дверцы в стенах. Тронув рукоять кинжала, как всегда висевшего на поясе за спиной, бездумно ощупал карман, где лежала записка, которая и привела меня сюда. Записка эта была точь-в-точь как из комедии Лопе или Тирсо:
Если чувство, которое Вы питаете ко мне, еще живо, сейчас самое время доказать это. Я буду рада видеть Вас в одиннадцать утра, под аркой, ведущей в старый еврейский квартал.
Записку принесли в девять, на постоялый двор, где я сидел на пороге, дожидаясь возвращения капитана и глазея на прохожих. Она была без подписи, однако имя отправительницы запечатлелось на бумаге так же ясно, как в памяти и сердце у меня. Вы, господа, сами можете представить себе, какая буря противоречивых чувств бушевала в моей душе с минуты получения послания, какая сладостная тревога направляла мои шаги. Дабы не наскучить читателю и не вогнать самого себя в краску, умолчу о своем смятении, столь присущем влюбленным, а упомяну лишь, что было мне шестнадцать лет, и ни одну даму или девицу не любил я в ту пору — да и потом тоже, — как Анхелику де Алькесар.
Да, черт возьми, это было нечто особенное. Я знал, что эта записочка — всего лишь очередной ход в опасной игре, которую вела со мной Анхелика с того дня, как мы впервые увидели друг друга в Мадриде, возле таверны «У Турка». Игра эта, где на кону стояла и жизнь моя, и честь, еще много раз и на протяжении многих лет будет заставлять меня скользить над пропастью по лезвию самой сладостной бритвы, какую только может сотворить женщина для мужчины, который всю ее жизнь, до последнего дыхания, пресекшегося так рано, будет ей и возлюбленным, и врагом. Но до этого было тогда еще далеко, а пока прохладным зимним утром я шел по Севилье с отвагой и бодростью, неотъемлемыми от молодости, припоминая, как эта девочка — теперь уже, наверно, не девочка — три года назад у мадридского источника Асеро, когда я сказал, что готов умереть за нее, ответила с улыбкой нежной и загадочной: «Может, когда-нибудь и сбудется твое желание».
У арки де ла Альхама никого не было. Оставив за спиной колокольню кафедрального собора, врезанную в небо над купами апельсиновых деревьев, я прошел дальше, свернул и оказался у противоположного выхода, где журчал фонтан и свисал с зубчатых стен Алькасара вьюнок. Никого. Быть может, кто-то подшутил надо мной, думал я, вглядываясь в темноту. Но тут за спиной послышался какой-то звук, и я обернулся, одновременно взявшись за кинжал. Одна из дверей открылась, и появившийся оттуда дюжий и рыжий немец-гвардеец молча воззрился на меня. Потом поманил к себе, и я сторожко, опасаясь подвоха, приблизился. Немец не выказывал враждебных намерений, а всего лишь рассматривал меня с профессиональным любопытством, после чего показал знаком, чтобы я отдал кинжал. Между густейших рыжих бакенбард, соединенных с усами, мелькнула добродушная улыбка. Потом он произнес нечто вроде «комензихерейн», и я, вдосталь навидавшийся во Фландрии немцев как живых, так и мертвых, понял, что это значит «Иди сюда», «Заходи» или что-то в этом роде. Выбора у меня не было, так что я отстегнул кинжал и переступил порог.
— Ну, здравствуй… солдат.
Те, кто знает портрет Анхелики де Алькесар, написанный Диего Веласкесом, легко представят себе, как выглядела она года за два-три до этого. Племяннице личного секретаря его величества, фрейлине королевы в ту пору исполнилось уже пятнадцать лет, и ее красота была уже не обещанием, а непреложной данностью. Анхелика выросла и расцвела: шнурованный лиф с отделкой из серебра и кораллов, широкая длинная юбка на металлическом каркасе — гвардимканте, красиво струившаяся вокруг бедер, подчеркивали пленительно-женственные очертания ее фигуры, потерявшей со времени нашей последней встречи отроческую угловатость. Золото завитков — золото, какого и на рудниках Арауко не видывали, — подчеркивая синеву глаз, не противоречило белизне матовой кожи, которая казалась гладкой, как шелк. Впоследствии, когда мне довелось прикоснуться к ней, оказалось, что не казалась.