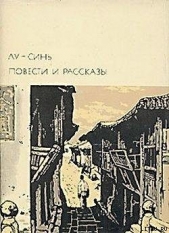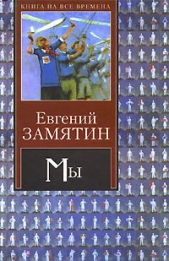Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
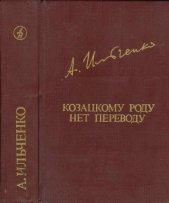
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Без единого слышного чужому уху звука — песня струилась и струилась в душе, и не давало хлопцу уснуть зашитое в шапке, под изголовьем, письмо Украины к могучему царю, к той силе, что могла Украину спасти от вражьего нашествия, от лиха всенародного, от иноземного ярма.
Уже несколько дней так вот и жил у гончара Шумила Жданова посланец разоряемой, терзаемой Украины.
Жил.
Горшки расписные лепил.
Песни презвонкие потихоньку пел. За работой.
Сказки рассказывал. Тишком.
Про свою Украину говорил жадным до правды москвитянам, про реки крови, что текут и текут в Днепро.
Про ляшское иго.
Про неволю турецкую.
Про своего отца, Саливона Глека, про цех гончарский, про уклад цеховой старобытный, о коем московские ремесленники и слыхом не слыхивали, ибо все были тут кабальными да холопами.
— А де́вицы, верно, пригожие там у вас? — опасливо вздыхала шустрая вострушка.
— Да уж пригожие.
— Разборчивы?
— Разборчивы, ой-ой!
— Это славно, коли разборчивы. А гордые?
— Гордые. Да и грамоте знают частенько… — И он рассказывал про мирославских девчат и молодиц, своенравных украинок, кои не ведали ни теремов, ни установлений Домостроя, ни кабалы боярской, ни безмерного произвола мужа…
Аринушка вздыхала, и Украина отчего-то ей мнилась тогда раем земным, ибо ведомо издавна — хорошо лишь там, где нас нет…
Поутру пытаясь поймать почти несбыточный случай пробиться к царю, с государственной своей надобой, возвращался потом и работал до ночи Омелько в ждановской гончарне, строгал глину, мял, лепил, сушил да малевал, сажал сделанное в печь, и Аринушка перенимала у него, приглядывалась, расспрашивала, про Москву сказывала всякую всячину, тайно от отца училась читать и писать, да и разутешить умела чубатого, когда кручинился тот, прослышав, что проникнуть к государю — дело немыслимое, не стоит, мол, и стараться, затем что царя уложили в постель голландские да немецкие лекари — чуть не на всю неделю…
В воскресенье Омелько бродил по Москве.
Подлатав Омельяну, где требовалось, изодранный жупан и шаровары, с самого утра всюду водила его Аринушка, и каждый шаг являл хлопцу новинку — то горькую, то радостную, а то и просто забавную: там некий величавый облик каменной громады, там хоромы и терема, церкви и ворота в стенах городских, диковинные базары и торжки, заморские звери и птицы зверинцев, иноземцы в невиданных нарядах.
Когда проходили с Аринкой у стен Кремля, опасливая девчушка не велела Омельяну ни на что глядеть в упор, а лишь одним глазком, затем что стрельцы торчали у каждых ворот и следили — не смотрит ли кто на царский за́мок или на какую пушечку — и сразу же хватали сомнительного человека, а из рук их никто живым не вырывался.
Одного такого «шпиона» — Омелько видел сам — вели по улице, сорвав одежду и связав руки, и стегал палач беднягу страшенной плетью, тонко свитой из бычьих жил.
Еще видел Омельян, как, привязав к ружьям, вели невесть куда неосмотрительного музыканта, пойманного с виолою в руках; как тащили на расправу старика, что развел огонь в печи не в четверг, как дозволялось летом раз на неделе, а в субботу…
Омелько ходил в то утро по Москве, и так разбирало его желание заглянуть в слюдяные оконца в теремах, в алтари, в книжные палаты государевы, в сады, что шумели листвой на каждом дворе тогдашней Москвы, где северные яблочки родились точно в сказке: глянешь против света, зернышки насквозь видны — вот как!
Ему уже хотелось яблока.
Хотелось домой.
Но… увы!
Москва в то душное лето утопала в пыли.
По улицам, мощенным нетесаными бревнами, ветер носил базарный мусор, солому, сено, костру конопли, клочья пеньки и шерсти, лыко, стружку — близ мастерских, где сбивали из досок гробы, коих летом в Москве требовалось множество.
Дымили пожары, и Аринушка хватала за рукав Омелька, чтоб не кидался на помощь, знала же: пришлого могут схватить, обвинить в поджоге, а поджигателей с пособниками отдавали прямо в руки палача.
Где улицы были не мощены, тем летом тоже можно было пройти без опаски, благо давненько не дождило, и преогромные лужи и топкая грязь, без коих не обходился тогда ни один большой город, ни одна столица мира, — лужи всюду, почитай, просохли, и Омельян с Ариною успели в то утро походить по городу немало.
Когда шли мимо аптекарского сада, ворота оказались открытыми. Омелько завел туда девчушку, и они каких только трав и цветов не нагляделись и малость погуляли там, пока заспанный сторож не погнал их прочь. Заглянули украдкой и в царский сад, что был тогда напротив Кремля, на том берегу речки, сквозь ворота видели прездоровые железные клетки с хищным зверем — львами, тиграми, волками, что грызли прутья и метались как ошалелые. Видели там и заморские травы и деревья, и один цветок, кроваво-красный, похожий на троянды, то есть розы, что росли в саду Мельхиседека, только пышнее, так жарко рдел в лучах солнца, что Омельян перепрыгнул нежданно через кованую решетку и сорвал в государевом саду ту розу, и руки колючками окровенил, и, когда б его изловили, за такую наглость, ясное дело, поплатился бы головой.
Он отдал розу Арине, и девчушка, поспешая, чтоб не увидели краденого дива, даже и не разглядев, лишь аромат почуяв, поспешно спрятала цветок за пазуху и тоже исколола себе огрубевшие от работы пальчики, уколола детскую еще грудь, а когда оба, козак и маленькая москвитяночка, взявшись за руки, проворно двинулись подальше от царского сада, капельки их крови на пальцах смешались, и простодушная попрыгунья испуганно вскрикнула:
— Кровь!
— Чего ты? — спросил Омельян.
— Кровь наша смешалась…
— И что же? Примета какая?
— Страшно стало.
— Да отчего ж?
— Не знаю.
Омелько пытливо посмотрел на нее и, когда тронулись дальше, сказал:
— Идем в Успенский собор.
— Чего так вдруг?
— Может, царь на богослужении.
— Недужный ведь!
— А коли оправился? Идем!
И они двинулись к Кремлю.
Государь всея Руси и впрямь в тот день стоял у поздней обедни.
По другим церквам Москвы людей тогда бывало маловато, ибо, как свидетельствовал один из иноземцев, описывавших свое пребывание в Москве, «сколь много церквей — столь мало они посещаемы», людей во всех храмах собиралось негусто, однако ж тут, в Успенском, народу привалило — яблоку упасть негде, ведь каждому хотелось посмотреть и на самого царя, что от людей теперь хоронился, и на митрополита с архиереями, хотелось москвитянам и пение соборного хора послушать (петь дозволялось ведь только в церквах!), и все проталкивались во храме поближе к алтарю. Омельян с Арникою так и застряли бы, не войдя, в притворе, в людской давке, если б девчушка не взяла чубатого своего за руку да не потащила его сквозь плотную толпу, что иголочка нитку.
Очутившись в церкви, — дальше протиснуться они, правда, не имели ни возможности, ни силы, — стали при входе, у ктиторова ларя, где некие толстенные дворяне продавали свечки.
В тот жаркий день было нелегко дышать и на улице.
А здесь, во храме, где узенькие окна никогда не открывались, где было полно мух, где сбилась не одна тысяча взопревших мирян, вплоть прижатых друг к другу, где кадильницы беспрестанно курили ладаном, где мерцало множество свечей, — молящиеся тут, случалось, обмирали, но и упасть не могли, так и оставались, в беспамятстве, стоймя, подпертые со всех сторон горячими и потными телами, облепленные тучей мух.
Протиснуться ближе к царю, что стоял впереди, у алтаря, на царском месте, кое в Успенском соборе издавна зовется троном Мономаха, пробиться туда нечего было и думать, но и вырваться отсюда на площадь они с Аринкой уже не могли, да и голоса певчих, гремевшие с правого клироса, выводили столь близкое и знакомое, что дух у Омельяна занялся, ибо служба шла в Кремле не знаменским одноголосьем, а новым для Москвы киевским распевом, коему Омельян не без успеха учился в Братской школе, в Киеве, куда его посылали из Мирослава в науку «для-ради звона, яко и певчества церковного на клиросах обоих», — и так уже соскучился парубок по пению мусикийному, что сердце на миг остановилось, замерло тревожно и сладко, как может замирать от песни лишь сердце истинного музыканта.