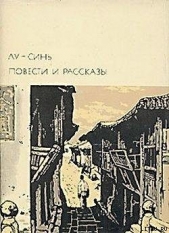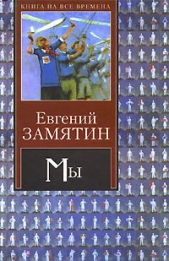Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
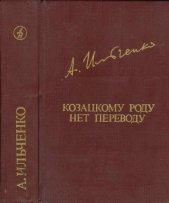
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она и чмокала малютке, который жадно, жизнь свою утверждая, припал к теплому лону.
Она и глядела на него сияющим взором, как может глядеть молодая мать.
Она всем существом своим помогала младенцу вбирать животворный сок материнства.
Билась жилка на оголенной груди молодой матери, и грубоватое лицо ее, обветренное, простое, самое обыкновенное, уже светилось высоким вдохновением, и восторгом, и той красотой, которая осеняет полотна величайших мастеров, с неугасимым чувством писавших мадонну, приснодеву, счастливую мать, задумавшуюся над судьбою младенца, охваченную любовью, трепещущую от прикосновения губ дитяти, счастливую мать, что становится в тот миг красою мира.

Покормив ребеночка, молодица встала:
— Так мы пойдем?
— Кто это «мы»?
— Я с младенчиком…
— В своем ли ты уме?
— Я и сама не знаю… — вздохнула молодица, и снова лицо ее стало красным, простым, обычным, хотя и лежал еще на нем отблеск материнского вдохновенья. — Кабы вы знали, как он… губками… и всем тельцем…
— Спасибо тебе, серденько, — сказал Прудивус. — Однако нельзя!
— Мать есть у дитенка?
— Матери нету.
— Отец?
— Отцу мы и хотим отнести.
— На ту сторону? — спросила молодица.
Тимош не ответил.
— Не донесешь, — сказала молодица, помолчав.
— Отчего ж!
— В немецкой одеже? Нет. Узнают!
— Тебя ведь я обдурил, — усмехнулся, потирая синяки да шишки, Прудивус.
— Не все ж такие глупые, как я! — И, отдав дитя старому Потребе, молодица отправилась своим путем.
Обернувшись, сказала Прудивусу:
— Переоделся бы.
— Нет у меня тут иного платья, пани.
— Пропадешь, гляди… — повела плечом сердитая молодка. — С дитем! — И скрылась в дорожной пыли.
Лицедей сидел на мураве у дороги и тяжело дышал. Он глядел вслед молодице признательным взором, позабыв уже о тумаках, коими она его так щедро наградила.
Ложка качал головой, дед Потреба спрашивал:
— Чего, Ложечка, пригорюнился?
Песик только глянул с достоинством, однако ничего не сказал.
— Откуда вы все-таки, батенько, знаете, как зовут мою собачку?
— Песик-то Мамаев! Мы с Ложкою не первый год знакомы. Верно?
Ложка согласно кивал головою. А дед Потреба продолжал:
— Сей вот Ложка… не раз в баталии с нами ходил. С низовым товариством хаживал в Черное море, аж до Скутар. Из беды нас выручал! Ты помнишь, Ложечка, как мы с тобою…
«А как же, мол», — грустно брехнул Ложка.
— Как мы с тобою да с паном Мамаем побывали в Варшаве! А? Не забыл? — И обернулся к Прудивусу — То, голубь мой, было, когда мы с панами ляхами еще пытались играть в пшиязнь…
Старик Потреба задумался… Задумался над истинной приязнью наших народов, польского и украинского: издавна влекло украинцев богатство польской культуры, пока не началось окатоличивание, покуда не стали простые люди Украины для польской шляхты скотом, покамест панство украинское, алчности своей ради, ради толстого пуза, ради титулов, ради поместий и денег, не стало с легкостью предаваться «злотой польщизне», продавать шляхте свой народ… Дед Потреба про все про то думал, ясное дело, иными словами, однако горечь оттого, что вместо дружбы меж простым людом Речи Посполитой и Украины длились войны да козни, горькая горечь звенела в голосе старика, когда он рассказывал Тимошу про свое с Мамаем подорожье в Варшаву.
— Эге ж… то, мой лебедок, было, когда мы с панами ляхами еще играли в приятелей да ходили к королю, чтоб добыть хоть кроху правды… Были мы тогда с Мамаем в замке у злого ката народа нашего, у князя Вишневецкого… Ты не забыл его, Ложка?
Песик злобно брехнул.
— Ну, — вел свой рассказ Потреба, — паны пируют, а нас, козаков, посадили за тот же стол, только на дальний конец. Даже немецким наймитам нашли паны местечко получше. Не по душе это пришлось Мамаю. Вижу, косо поглядывает он на князя, а тот сидел на другом конце, во главе стола, против Мамая. А когда выпили по второй иль по третьей, гляжу, дракой пахнет — Мамай за саблю хватается, вот-вот вскочит, тут и каюк будет посольству нашему и нам самим, покрошат нас паны ляхи в том углу на капусту… — И старый Потреба стал разворачивать мокрые пеленки, потому что младенец захныкал.
— Что ж было потом? — спросил Прудивус.
— Ложка выручил… Когда от Мамаева едкого слова Вишневецкий тоже стал хвататься за саблю, Песик тут и вцепись ему в лытку. Вопит князь, а что такое — никто в толк не возьмет, потому как под столом не видно, да и панских собак там предостаточно, вот на Ложечку никто и не подумал. Однако ж переполох поднялся такой, что и про ссору забыли. Хотя, правда, довелось-таки той же ночью нам из замка тягу дать, ибо Мамай отдубасил где-то в сенях князева племянника… Не забыл, пане Ложка?
Песик Ложка снова кивнул: «Как же, мол!» — да еще, пожалуй, подумал притом про свои преклонные года: все, что вспоминал старый запорожец, произошло-таки давненько.
Дед Потреба повел было свой рассказ далее, но замолк.
По дороге шла опрятненькая и разбитная дивчина с деревянным ведром в одной руке да с лукошком — в другой.
В ведре плавали моченые яблоки летошнего урожая. А в лукошке тарахтели совсем еще зеленые кислицы, дикие яблочки, только что собранные в лесу.
Была то обыкновенная дивчина, шустрая и проворная, не куцая и не длинная; не белявая и не чернявая, и не рыжая тоже; не урод, однако же и не красавица, не краля; не слишком-то в теле и даже рябовата малость, поклеванная оспой, — а это случалось тогда меж людей во всем мире не так уж редко, — одним словом, столь обыкновенная девчонка, что мы с вами, читатель, повстречав сию рябенькую воструху на улице, может, даже и внимания на нее не обратили бы, когда б не судилось ей, далее, чуть погодя, сыграть в нашем озорном романе весьма заметную роль.
Да она и прошла бы сейчас мимо наших героев, не кинься ей в глаза долговязый рейтар, склонившийся над младенцем, коего держал на руках дед Потреба.
— Так это вы и есть? — спросила она у Прудивуса.
— Я, — с пылу отвечал Прудивус, а опамятовавшись, поспешил опровергнуть: — То есть… коли сказать вернее… вовсе не я!
— Так я и думала!
— О чем ты?
— О том, что вы — тот самый полоумный рейтар, у которого сейчас только моя родная сестра покормила украденного где-то ребенка. Мотря так и сказала: немец он или кто — не разберешь, а что не при уме, видно и так, на глаз! — И цокотуха все болтала да болтала.
— Распустила язык! — рассердился Потреба.
— Доброго здоровья, дедусю! — поклонилась дивчина.
— Будь и ты здорова, ласточка моя, — ответил Потреба и спросил: — Куда спешишь?
— На базар. Яблоки да кислицы продавать несу.
— Кто ж их купит?
— Вот этот ваш дурной немчин и купит! — И она обратилась к Прудивусу — Эпфельхен! Не хочешь ли?
Да Прудивус на дивчину и не глядел, ибо все у него еще болело после беседы с ее сестрою.
— Ну? — спросила рябенькая дивчина. — Кисличек?
— Зеленча! — безразлично отозвался Прудивус.
— Что с того? — возразила цокотуха. — Зато сладкие, — добавила она и храбро откусила чуть не половину недозрелого лесного яблочка, на кое и глянуть было довольно, чтобы свело челюсти.
Но дивчина и не поморщилась.
— Сладко, что мед! — И девка откусила еще. — Сладко, что мамина грудь! — И проглотила, что было во рту, и ни одна жилка не дрогнула на ее тронутом оспой лице от лютой кислоты, острой, аж ныли зубы. — Сладко, что Адамов грех!
— Кто тебе сказал, что грех — сладок? — полюбопытствовал Прудивус.
— Батюшка в школе сказывал.
— Что ж он говорил?
— То и говорил… Яблочко, что Ева дала своему недогадливому Адаму, оно ж ему тогда показалось бог знает каким сладким. А была то простая кисличка. Дичок! Других же тогда еще не знали.
— Любопытно! — пробормотал Прудивус и задумался, и так ему вновь захотелось поскорее добраться до Киева. Ненароком сказанные слова — про грех, про яблоко соблазна, про Адама и Еву — разворошили у спудея рой мыслей и чувств: ведь не год и не два он там, в киевской Академии, писал ученый труд о познании добра и зла, о первородном грехе, о философии грехопадения вообще, и все это представлялось ему весьма важным делом: из-за греха Адамова не только первый пот оросил чело, не только завладела миром пани Смерть, но и познал человек все радости бытия, радости тела и духа, коих первые люди в раю не знавали, обреченные на веки вечные безрадостно и бессмертно томиться средь райского уюта… Он писал и про то, киевский спудей Тимош Прудивус, что Адам назвал свою сладчайшую подругу Евой, лишь впервые вкусив от греха, — имя сие означает будто бы не что иное, как Источник Жизни, ведь это она, она смело нарушила божью заповедь, она, прекрасная Ева, — и вся та ученая книга, которую писал в Киеве наш Прудивус, должна была прогреметь осанною Еве, пречистой матери всего живого, сиречь человеческого — чистого иль нечистого, но живого! Живой и плотской, полной буйной крови, беспокойной, мятущейся, бессонной человеческой жизни.