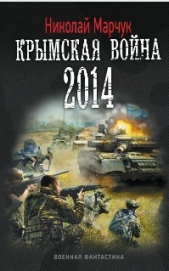Религия

Религия читать книгу онлайн
Все началось страшной весенней ночью 1540 года от Рождества Христова в маленькой карпатской деревне.
Так уж вышло, что тринадцатилетний сын саксонского кузнеца закалил свой первый в жизни клинок в крови воина-сарацина, убившего его маленькую сестру. Пройдя трудными путями войны, воюя то под зеленым знаменем мусульман, то под знаменами крестоносцев, повзрослевший Матиас Тангейзер приходит к выводу, что война в жизни человека не самое главное. Но судьба распоряжается по-иному.
Пустившись по следу тайны исчезновения сына графини Ла Пенотье, он оказывается на острове Мальта в самом эпицентре сражения между рыцарями-госпитальерами и отрядами захватчиков-турков. Привычный к военным будням, Матиас пока что не знает, что ему следует опасаться вовсе не вражеского меча, а той тайной и страшной силы, которая невидимо управляет кораблем кровавой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ибрагим вернулся следующим утром; Кристофер был дома, его отец.
Ибрагим видел его лицо, когда мир был еще юным, когда он был Матиасом, сыном кузнеца, когда волосы его матери были цвета меди, когда Бритта пела «Ворона», играя с Гердой в саду. Кристофер похлопал тогда юного Матиаса по спине и отправился по фермам — посмотреть, нет ли кузнечной работы, а сыну велел позаботиться о женщинах. А Матиас не сумел, хотя и старался.
Ибрагим нашел Кристофера в кузнице; вместе с сыном он склонялся над мерцающим углем, раскрывая какие-то завораживающие тайны своего искусства. На нем был длинный кожаный фартук. Волосы его поседели, нисколько не поредев. Для своих пятидесяти он выглядел более чем бодро, такой же крепкий, как всегда, с громадными бицепсами и крупными кистями рук. Он стоял спиной, отвернувшись, а Ибрагим остался в дверном проеме и смотрел, чувствуя во рту обычный для кузницы привкус мази и порошка из козьего рога, его уши улавливали слова давно не звучавшего для него диалекта, произнесенные голосом, всколыхнувшим так много воспоминаний.
— Смотри! — воскликнул Кристофер, словно заметил птицу редкостной красоты. — Вот этот голубой, словно утреннее небо в первый день Нового года. Запомни его. Навсегда. А теперь поторопись.
Мальчик вынул клещами полоску стали из огня и погрузил ее в ведро, читая «Аве Мария». Полоска стали была похожа по форме на резец каменотеса. От ведра пошел пар, Ибрагим почуял запах очищенного уксуса и разведенной извести. Точно — закалка для резца каменотеса. Длинное незабываемое наставление всплыло в голове: «Не настолько твердый, чтобы выбивать осколки из молотка при каждом ударе, но и не настолько мягкий, чтобы гнуться, исполняя свою священную задачу, ибо пока люди не научились резать по камню, они жили в настоящей пустыне — как Каин в земле Нод, — но без хороших инструментов в пустыню мы и вернемся».
Ибрагим едва не шагнул, чтобы взять фартук, но уловил выражение — улыбку — на лице Кристофера, который смотрел сверху вниз на мальчика и светился от какого-то первобытного чувства гордости. Эти чувства были неведомы Ибрагиму, потому что у него не было сына. Но этот взгляд, эту улыбку он знал — даже на лице Бога не могло бы отобразиться большей доброты.
И в этот момент Ибрагим — который десятки раз смотрел смерти в глаза и называл себя прямодушным — испытал страх, гораздо больший, чем испытывал когда-либо. Кристофер возродил семью заново. Он выстоял, он заново расцвел, из праха запустения он заново разжег огонь в очаге семьи, любви, мира, в его свете обучал магии, красоте и тайнам творения своего сына. Он пережил смерть и горе, которые принесли ему дьяволы, ему и тем, кого он любил больше жизни, дьяволы, такие же как Ибрагим. Чье ремесло было убивать — и душить детей — и не обтесывать камни, а ровнять их с землей.
Зачем же заставлять этого доброго человека снова вспоминать о том ужасном горе? К чему рассказывать, кем за это время сделался его первенец: кровавым прислужником той силы, которая уничтожила его детей? Зачем бросать тень настолько черную, что у нее нет даже названия, на яркий свет этого горна?
Кристофер ощутил его присутствие и развернулся; он увидел турецкое платье Ибрагима, но не увидел лица, потому что яркое утреннее солнце светило во дворе у него за спиной. Улыбка, достойная Бога, сбежала с его лица. Он поклонился, холодно, со сдержанностью, не знающей никаких рангов и различий.
— Добрый день, господин, — произнес он. — Чем могу вам служить?
Ибрагим помнил и это наставление тоже: приветствие, вопрос, вежливость. Горло его сжалось, и он кашлянул.
Затем произнес:
— Ваш мальчик вчера подковал мне лошадь.
Кристофер говорил по-немецки, который, как казалось Ибрагиму, сам он забыл. Кузнец никак не ожидал услышать ответ на том же языке. Во всяком случае, от турка.
Кристофер заморгал.
— Вы чем-то недовольны?
Мальчик окаменел. Ибрагим замахал рукой.
— Нет, нисколько. Совсем наоборот, у моего коня ни разу не было новых подков лучше, а мы с ним преодолели вместе немало трудных лиг. — Он замолк из опасения выдать слишком много. — Мне показалось, я слишком мало заплатил за такой труд, поэтому хотел бы дополнительно наградить мальчика.
Мальчик вспыхнул от радости.
— В этом нет необходимости, — возразил Кристофер. — То, что вы довольны работой, уже достаточная награда. Поблагодари господина, Мэтти.
Когда Ибрагим услышал имя мальчика, горло его сжалось еще сильнее и смятение еще больше усилилось.
— И все-таки, — сказал Ибрагим, — если это вас не оскорбит, мне бы хотелось наградить его.
Мэтти взглянул на отца и получил согласный кивок; пока мальчик шел через кузницу, Кристофер вглядывался в затененный силуэт в двери с каким-то странным любопытством. Ибрагим потянулся за своим кошельком, в котором находилась добрая часть всего его золота и серебра. Он не мог предвидеть всех обстоятельств. И когда Мэтти оказался рядом с ним, Ибрагим не мог больше сопротивляться охватившему его порыву. Он вытряхнул содержимое кошелька и положил в руки мальчика, втайне, как он надеялся, от глаз Кристофера. Мэтти почувствовал вес монет и открыл рот, чтобы возразить.
— Не забывай о хороших манерах, мальчик, — проговорил Ибрагим вполголоса. — И не показывай это, пока я не уеду.
Он посмотрел на Кристофера еще раз. Сумел ли тот разглядеть его или нет? Уходи сейчас же, велел он себе, пока не стало слишком поздно. Он поднял руку.
— Да пребудет мир с тобой и всеми твоими родными, — произнес он.
Затем развернулся и вышел за порог, где его ждала лошадь.
— Задержитесь немного, — окликнул его сзади Кристофер. — Разделите с нами завтрак.
Ибрагим замер на пороге. Жгучая боль острым ножом пронзила его сердце. Пропасть разверзлась у ног, как разверзлась у этого же порога много жизней тому назад. Стоит ли ему пытаться вернуть хотя бы небольшой кусочек того, что у него отняли? Или же все это ушло навсегда и не потеряется ли он еще больше от подобной попытки? Знакомый голос зазвучал в голове и на знакомом языке — языке, вспомнил он теперь, на котором он сам отдавал приказы в Нахичевани, — прорвался сквозь его мучения.
«Все прошло. Все кончено. Они больше не твой народ. Пусть они живут в своем мире».
Ибрагим бросил через плечо:
— Вы очень добры, господин, но неотложные дела зовут меня в Старый Стамбул.
Он сел верхом и уехал, не оглядываясь назад. Но, сделав это, понял, что не сможет вернуться в Стамбул. Это тоже уже в прошлом. Турки тоже не его народ. Если во всем мире и был человек, вообще не принадлежащий ни одному народу, то это был он сам. Он был одинок. И он был свободен.
— Вместо того чтобы поехать на юг, я направился на запад, — сказал он Ампаро, — в Вену и в земли франков, к войнам, глупостям и чудесам совсем иного характера. Но это уже другая история.
Ампаро глядела на него мокрыми от слез глазами, кажется, еще более недоумевающая, чем раньше.
Он отвернулся.
— Теперь ты понимаешь, — сказал он, — сам я видел отца, но не позволил ему увидеть меня.
Ампаро сказала:
— И какой во всем этом смысл? Он любил тебя. Он отдал бы все, что угодно, лишь бы увидеть тебя.
Едва ли он хотел услышать именно это. Тангейзер чуть было не ответил: «Мне было стыдно. И я не мог рисковать тем, что стыдно станет и ему». Но с него уже было довольно подобных тяжких разговоров. Поэтому он сказал:
— Во всем том, что я делаю, вообще не много смысла. Иначе с чего бы мне возвращаться в эту скорбную дыру?
— Ты больше не любишь меня, — сказала она.
Это обвинение застало его совершенно врасплох, и он выпалил:
— Чепуха!
Она склонила голову набок и внимательно посмотрела на него — так дикая птица могла бы изучать приземленное создание гораздо крупнее, гораздо тяжеловеснее и глупее ее. Конечно, его ответ требовал пояснений. Но если он пустится в объяснения, ему в итоге придется признаваться в любви.
Ампаро дожидалась следующего неверного шага, который только глубже заманит его в расставленные ею сети, и он, словно последний дурак, сделал этот шаг.