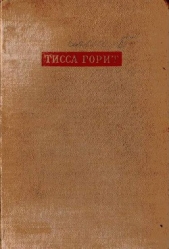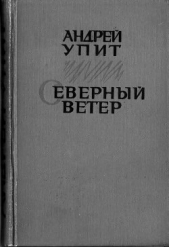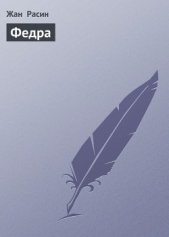Когда мы состаримся

Когда мы состаримся читать книгу онлайн
Роман классика венгерской литературы Мора Йокаи (1825–1904) посвящён теме освободительного движения, насыщен острыми сюжетными ситуациями, колоритными картинами быта и нравов венгерского общества второй половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— И я о том же думаю, — вздохнул брат, ворочаясь в постели.
Никогда я не мог пожаловаться на плохой сон (да и какой ребёнок спит плохо?), но ни одно вставанье не далось мне с таким трудом, как в утро отъезда.
Послезавтра уже кто-то другой будет спать в моей постели!
Ещё раз мы собрались все вместе за завтраком при свече, в предрассветных сумерках.
Маменька то и дело вставала поцеловать, обнять брата, все ласковые слова, какие только можно, говоря ему, взяв с него обещание писать почаще и, если какая беда, сообщить немедля, но помнить дурная весть сразит два любящих сердца здесь, дома.
Меня же только поторопила пить кофе, пока горячий, потому что на дворе холодно сейчас.
И бабушка целиком занята была братом, осведомясь под конец, всё ли нужное уложил, не забыл ли свидетельства, аттестаты. Всему этому я скорее удивлялся, нежели завидовал, хотя холить да лелеять принято больше младшего сына.
И когда тарантас прибыл и мы, захватив свои дорожные плащи по очереди попрощались со всеми домашними, маменька Лоранду бросилась опять на шею, Лоранда проводила до ворот, ему шептала на ухо разные нежные слова; его трижды обняла и расцеловала, прежде чем до меня дошёл черёд.
А мне, обняв и поцеловав, шепнула:
— Береги своего старшего брата, сыночек!
Мне беречь брата? Ребёнку за взрослым юношей следить? Слабому — за сильным? Младшему — за старшим?
Я всё раздумывал по дороге над этим назиданием — и в толк не мог его взять.
Дорожные впечатления как-то стёрлись в моей памяти; кажется, я всё больше спал. С раннего утра до позднего вечера длилась наша поездка, но меня лишь под конец, когда уже стало смеркаться, полностью пробудила не посещавшая прежде мысль: а какая она, кого берут взамен? Кто моё место займёт за столом, в моей комнате и у маменьки на коленях? Маленькая она или высокая, красивая или дурнушка, послушная или проказница? Есть ли у неё братья, сёстры, которые сделаются теперь моими? Страшно ли ей, как мне?
Потому что мне было очень страшно!
Ещё бы не страшно встретиться с ребёнком, который за своего будет у маменьки, а я окажусь у чужих родителей.
Будь они хоть владетельные особы, всё равно мне от этого не легче.
Должен признаться: предположение, что моя заменщица может оказаться дурным, своенравным созданием, доставляла мне нечто вроде горького удовлетворения. Маменька ещё меня вспомянет!.. Но если наоборот? Если она — добрая, ангельская душа и ей достанется вся маменькина любовь?..
Так или иначе, страшно было даже подумать об этом существе, предназначенном мне на замену.
К вечеру бабушка объявила, что город виден.
Я сидел спиной к цели нашего путешествия, и пришлось обернуться, чтобы посмотреть на Пожонь.
Вдалеке, на верхушке горы, белело какое-то сооружение на четырёх опорах, наподобие остова здания, оно было первым, что бросилось мне в глаза.
— Какое громадное лобное место! — сказал я бабушке.
— Это не лобное место, детка, — возразила она, — это развалины пожоньской крепости.
Странные развалины. Я не мог прогнать первого впечатления. Крепость упорно рисовалась мне огромным лобным местом.
Уж очень поздно добрались мы до города. Сравнительно с нашим комитатским [8] центром показался он мне очень большим. Таких витрин я ещё не видывал и всё дивился тротуарам, устроенным Для пешеходов. Важные, значит, живут здесь господа.
Пекарь, г-н Фромм, к которому меня везли, поставил условием в гостиницу не заезжать, он-де сам будет рад устроить нас у себя, тем паче что мы и так уже дорогу оплатили. По адресу на бумажке мы благополучно его отыскали. Жил он в красивом двухэтажном доме на Фюрстеналлее, с булочной, выходившей на улицу; изображённые на вывеске позолоченные львы держали во рту пышки и кренделя, с Дружелюбным выражением предлагая их прохожим.
Г-н Фромм самолично поджидал нас в дверях булочной и сам поспешил отворить дверцы тарантаса. Это был плотный, приземистый, круглолицый мужчина с чёрными бровями, коротко подстриженными чёрными усами и с густоволосой, но белой, как мука, тоже стриженой седой головой.
Добрый человек помог бабушке сойти, поддержал под локоть и брату пожал руку, сказав что-то по-немецки. Мне же, когда я вылез, положил с коротким смешком руку на голову.
— Iste puer? — И потрепал по щеке. — Bonus, bonus! [9]
Из всего этого вышла для нас та обоюдная польза, что я, не зная немецкого языка, он же definitive [10] венгерского и, призвав interim [11] на помощь промежуточный нейтральный, мы сразу отвели всякое возможное подозрение, будто оба глухонемые. Вдобавок сей достойный муж прибавил себе решпекта в моих глазах, показав, что и в языке Цицерона сведущ помимо своих сугубо профессиональных познаний.
Пропустив бабушку с Лорандом вперёд, г-н Фромм по узкой каменной лестнице провёл нас на второй этаж. Руку свою он при этом неотрывно держал у меня на макушке, будто мною управляя.
— Veni puer. Hic puer secundus. Filius meus. [12]
Ах, значит, есть в доме и другой мальчик. Ещё страшней.
— Ist studious. [13]
И он тоже учится! Это уже лучше. Вместе будем в гимназию ходить.
— Meus fileus magnus asinus. [14]
Хорошенькая рекомендация в устах отца.
— Nescit pensum, nunquam scit. [15]
Исчерпав на том запас латинских слов, булочник дополнил сказанное пантомимой, по которой можно было понять, что «meus fileus» в нынешний торжественный день будет оставлен без ужина и заперт у себя в комнате, пока всех уроков не выучит.
Это не настроило меня на особенно радужный лад.
Какая же может быть после этого «mea filia»? [16]
С домом, подобным фроммовскому, мне ещё не доводилось знакомиться ближе. Наш был одноэтажный, с просторными комнатами, широкими коридорами. В этот попадали через узкий коридорчик, оттуда взбирались наверх по винтовой лестнице, рассчитанной на одного, и — двери, двери; такое множество дверей и дверок, что, попав на ограждённую решётчатыми железными перилами галерею, невозможно было сообразить, как ты сюда попал, и ещё меньше, как выбраться обратно.
С галереи папа Фромм провёл нас прямиком в гостиную.
(Так, по привычке, милее будет мне и впредь его называть.)
Уже и свечи были зажжены, целых две в нашу честь, и стоя накрыт для ужина; по всему было видно, что ждали нас гораздо раньше.
На канапе сидели две особы женского пола: одна — «мама», его жена, другая — «гросмама». [17]
«Мама» была высокая, худощавая, с большими голубыми глазами и белокурыми кудельками надо лбом («Schneckli», [18] уж если на немецкий лад); с прямым германским носом, острым подбородком и родимым пятном на нижней губе.
«Гросмама» была точным подобием мамы, только старше лет на тридцать: ещё худощавей, с ещё более резкими чертами лица. Она тоже была с буклями, правда, уже накладными (как я узнал лет десять спустя), и тоже с родимым пятном, только пониже, на подбородке.
А на особом стульчике с подлокотниками сидела та, которая должна была меня заменить.
Фанни была годом моложе меня и не походила ни на мать, ни на бабку, исключая наследственное пятно, которое примостилось у неё в виде коричневой родинки на левой щёчке.
За дорогу у меня сложилось решительное предубеждение против моей заменщицы, и внешность её только подтвердила худшие мои опасения.