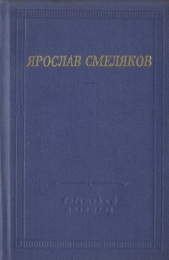И я иду по такому бульвару.
В кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.
В кармане, как рыба, разинувши глотку
(как рыба, выброшенная на берег),
беззвучно орет и требует взносов
мой синий, засаленный и худощавый.
Конкретный. Короткий. Билет. Профсоюзный.
И вот я такой. Я иду по бульвару.
В кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.
Их сколько ни складывай, сколько ни множь их,
ни вычитай, ни дели, ни делай
давно позабытые уравненья
с двумя, и с тремя, и с одним неизвестным, —
получится ровно, получится только
пятнадцать копеек. Пятнадцать. Копеек.
На них я куплю по шестому талону
там, в булочной, ждущей в конце бульвара
(двадцать шагов от моей комнатенки),
хлеба, горячего, словно сердце.
Хлеба, прекрасного, как мечтанье.
Фунт. С меня хватит. Я думаю — хватит!
Хлеба, покрытого черствой коркой,
хлеба, который солидно дышит,
когда его рвешь молодыми зубами.
А белый — оставлю. Подумаешь — белый.
Без белого можно наесться. Еще бы!
Он ждет меня, хлеб. Он лежит на полках
уютно и тихо. И ножик. Громадный.
Нож, а не ножик. Сначала примет
теплую ванну, слегка освежится,
потом накинется (прямо и ровно),
отрежет фунт. И — девушка в белом
протянет мне хлеб и слегка улыбнется.
И я ей отвечу звенящим смехом,
махну на прощанье, и (тут же у двери)
стоит раздобревшая, словно опара,
пухлая, вялая, частная баба.
Она мне отпустит с противной улыбкой
два огурца: малосольных, ядреных,
крепких, хрустящих, наполненных соком.
Я думаю — хватит. А завтра — получка.
А завтра — фабзавучник загуляет.
И ситный, и бьющее рыжим фонтаном,
ревущее, будто обрывок моря,
ситро в зеленеющей таре бутылок.
И так я таскаю (веснушчатый, бледный)
себя. И смотрю за всем и за всяким.
Вот гордые, полные, пожилые
идут, проживающие в Союзе.
У них всё в порядке, товарищи. Каждый
прописан, каждый имеет
жену и портьеры. У них заплачено за телефоны,
и долг за квартиру досрочно погашен.
(Значит — спокойно. Пожара не будет.)
Они идут, и бульвар рассыпал
им — развлеченье, им — радость, им — отдых.
Завидя их, краснощеких, усатых,
стыдливые делают реверансы
весы, неспособные вешать мясо,
вешать возы с свежескошенным сеном.
Весы, которые: «Специально
для лиц, уважающих свое здоровье».
Для них эта чахлая и пустая
бездарная надпись: «Комната смеха».
И вот ты увидишь, как эти проценты
людей, проживающих в нашем Союзе,
станут у кассы и купят билетик,
и будут беззубо (сверкая зубами)
смеяться. Ведь в зеркале «комнаты смеха»
то станешь толстым гиппопотамом,
то станешь худым, как жирафа, ну, в общем, —
совсем непохожим на человека.
И людям приятно, когда они выйдут,
что галстук на месте, они не горбаты,
что нос остается таким же, обычным,
и долг за квартиру досрочно погашен.
Мне ж каждая комната — комната смеха,
в которой я совершенно бесплатно
сверкаю светящимися зубами.
И вот я смеюсь, я иду по бульвару,
в кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.
Сидит на холодной бульварной скамейке
прыщавый парнишка и явно небрежно,
как девочку, трогает балалайку.
Он хочет, чтобы она запела
о тихой любви, о носках в полоску,
о галстуке, ярком, как это небо.
Он хочет, чтоб робкая балалайка
заплакала скрипкой, забилась в припадке,
чтоб ручейком понеслась от скамейки
мальчишечья грусть.
Но прохожие быстро
проходят. И парень сидит и скучает.
А дальше — сидит на бульварной скамейке
парень. Простой, говорливый, в юнгштурме.
Парень сидит, и в руках гитара,
парень сидит, а кругом ребята
смеются, галдят, вытирают шеи.
И вот неожиданно — прямо к звездам
бросается песня. И двадцать глоток
ее поднимают, несут, бросают,
и сорок легких бросают песню,
как вызов, как молодость, как победу.
А песня в юнгштурмовке, словно парень,
а песня кудрявая, будто парень,
который сумел из шаблонной гитары
вылепить сердце для этой песни.
А песня широкая. В этой песне,
как в смерче, как в буре, как в урагане,
смялись, засыпались, перемешались
парень, прыщавый, как это небо,
девочка с шариком, «комната смеха»,
весы, которые: «Специально
для лиц, уважающих свое здоровье»,
я, молодой, белобрысый, бледный,
с своим представленьем о мещанстве.
И только —
как будто гудок завода,
как будто фонтан неожиданной нефти,
как выстрел, летящий в зеленое небо,
как флаг на высоком и твердом зданье —
до звезд достает коллективная песня.
Я выйду из песни. И сразу увижу,
как надо мной плакат полыхает,
как бьется летящей, растрепанной птицей
плакат, на котором понятно и ясно
написано: «Каждый» (и я и другие),
«каждый трудящийся должен» (обязан)
«уметь стрелять». И уметь ненавидеть.
И я услышу, как бьет по жести
свинец. И тогда (почему — неизвестно)
я вспомню соседа, который тихо
живет за стеною моей комнатенки.
Он каждое утро стоит и смеется,
когда я в трусиках моюсь на кухне,
когда я захлебываюсь от счастья,
как от воды (от воды, как от счастья).
Он каждое утро меня ненавидит,
он каждое утро дает мне руку,
а хочет сломать мое узкое горло,
а хочет блестящими сапогами
разбить мое сердце, сломать мне кости.
Он хочет пройти по стране, по дорогам,
сверкая погонами и наганом,
чтобы горели бедняцкие избы,
чтоб в небо бросалось горячее пламя,
чтоб разлетелись квадратные стекла
риков, райкомов. Он хочет, чтобы
кулацкие банды схватились за вилы
(еще не забывшие о навозе,
о легком шуршанье колхозного сена).
Он хочет, чтобы на тихих деревьях
висели рваные трупы партийцев.
Он хочет, чтобы гулял Семенов,
чтобы в Москву на горячих конях
въехали гладкие интервенты.
Он бы поднес им буханку хлеба,
он бы насыпал солонку солью:
«Ешьте страну, разрывайте на части,
пересыпайте соленой кровью!»
«Нет!» — говорю я.
И вижу — как птица,
взлетает плакат, на котором, как лозунг,
написано: «Каждый» (и я и другие),
«каждый трудящийся должен» (обязан)
«уметь стрелять». И уметь ненавидеть.
Тогда я смешаюсь с толпою, гудящей
счастливой кучкой причесанных парней,
увижу дощечку (плата за выстрел),
отдам, не задумываясь ни минуты,
звенящие радостью три монеты,
возьму ружье, заряжу, прицелюсь,
и…
Вдруг покраснею. Эх, воин, промазал!
Вторую тоже.
И только третья
как трахнет, как загремит по жести.
Как вдарит! В монокль. И посыплется грохот,
пойдет по бульвару, взлетит над домами,
кусочком свинцовым проедет по небу,
перелетит через все границы
и даст отголоском в чужие окна.
Да так откликнется этот выстрел,
что даже всамделишному Чемберлену
станет немножечко неприятно.
1931–1932