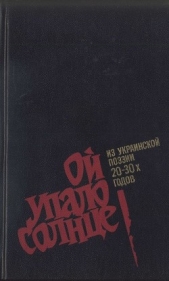Певуньи-двери, белый явор
и старый, расписной порог.
Так и несу из детской яви
начало всех моих дорог,
так память детства сохранила
уже поблекшие холсты
и так бедны охват и сила
той песни, что играешь ты,
что простодушием волнует,
но без нечаянной слезы
пейзажи прошлого рисует.
И хочется вернуть азы —
мальчишек радости и бури.
Быстрей струится в жилах кровь,
и счастье светится из хмури,
и пальцы дружатся с пером.
На ки́черах [24] седые травы,
червонный камушек в руке.
И ночь, как смоль, и день чернявый,
как цыган в поле налегке.
Ликуя, пылкие потоки,
как парни на призыв девчат,
летят к долинам недалеким,
что в космах измороси спят,
и курится цветочный запах,
как дым из трубок в небеса.
Трепещут ели в ветра лапах,
почти беззвучно голосят,
стекают в землю капли шума
смолою из горячих пней.
Повитый в зелень и раздумья,
бредет олень на звон ключей.
До срока солнце спит в колодце
на мохом выложенном дне,
затем оно кустом пробьется,
чтоб возвестить о новом дне.
Поет дубрава сном кудлатым,
прадавним шумом понесло.
На склоне пестрою заплатой
к горе приметано село.
Корчма — что куст, родящий звезды,
мигает свечами в ночи.
Сивухою пропитан воздух,
скрежещут ржавые ключи.
Смычок азартный рвут цыганы,
раскатистый несется бас.
Музы́ки гром, и голос пьяный,
и струн хмельных распутный глас.
Все десять пальцев нежат флейту,
в экстазе дерево горит.
Из бубна, как из жбана, хлещут
вселенский гром, последний крик.
Пылает скрипка, тихнет, вянет,
и сердце бубна бьется пьяно.
И об опришках [25] в сотый раз
рассказывает в песне бас:
святая пуля, злак незнамый,
литая сбруя, злая борть,
лихая ночь и смерть в бальзамах,
что их влюбленным варит черт.
А месяц, что певец-мечтатель,
взирает на земное дно.
И в гопаке взвивает платья
дивчина, как веретено.
Еще запомнил: над прудом
искристой сетью утро тает.
Еще запомнил: белый дом,
из бревен сшитый и мечтаний.
Еще запомнил: в солнце мост
рудой хребет лениво тянет,
как будто исполинский кот,
во сне глаза сомкнувший злые.
И дом, и мост, должно, стоят,
но для меня давно уплыли
и только памятью горят.
Над мостом ворон алчно каркал,
по речке солнце плыло в лес.
Под этот мост на ловлю раков
ходил и я в свои пять лет.
Рвал о шиповник одежонку,
губами кровь свою ловил.
На звезды пялился мальчонка,
да вот своей не находил.
Седые небо здесь и очи
у озабоченных людей.
Дожди бубнят и стекла мочат,
любого бедствия лютей.
Под этим небом разостлалась
земля смереки [26] и овса.
Как мхом, окутана печалью
страна задумчивая вся.
Лишений знаком вырастает
бурьян никчемный — лебеда.
Под небом вечным и бескрайним
у лемка [27] — вечная нужда.
В таинственных пещерах Лада
парням гадает молодым.
В церквах Христов курится ладан
и тянется молитвы дым.
На небе только к синим зорям
доходит тот призывный глас
людей бесхитростных, бескрылых,
всю жизнь целующих покорно
алтарь, не воздымая глаз,
устами, черными от пыли,
людей, что из утробы пекла
молитвы шлют Христу и Духу,
чтобы послали в дом копейку
на хлеб, на соль и на сивуху.
Земля пустует, веет ветер,
на ниве мох одеждой теплой,
а люди, как и в целом свете,
родятся, терпят, умирают,
Проходят моры и потопы,
повсюду множа пустыри,
грохочут войны и стихают,
меняются поводыри,
года плывут, как буйны воды,
и об опришках дождь осенний
воспоминания выводит,
Какое время протекло!
Лишь лемковское неизменно
векует нищее село.
Туда стрелою слово шлю,
туда на крыльях песни мчатся.
В таком селе судьбу свою
я начал, жизни величальник.
В народе, чистом изначально,
влачащем смирно доли пай,
боготворящем неба тайны
под знаком вещего серпа.
И может, здесь бы и остался,
подобно всем, смирился сам,
к земле немотственно прижался,
молясь ликующим овсам,—
но Тот, кто серне легкость дал,
пчеле — медовые цветы,
безжалостные когти — рыси,
мне слово песни даровал
и зубы, чтоб в кольце беды
я с ней по-рыцарски сразился.
Безбрежен мир. Безбрежней сердца.
И ветер никнет в той дали.
Не уместить в стихе усердном
ни звезд, ни неба, ни земли.
В миры большие путь не мерен.
Я с детства вверился ему.
И впрямь, границ не знает время,
но это ведомо кому?
Тревоги, радости, измены,
любовь, ошибки, ночи темень,
девчонки серые глаза.
Безверья мрак, и пыл любовный,
удачи хмель, коварства залп,
восторг свершенья исступленный,
и непотребно сытый стол,
и милость творчества святая —
все жизнь дала, не утая.
Ее здесь величаю я,
взывая: пусть я нищ и гол,—
пьяни меня! Концом пугая,
пусть голову осыплет ржа,
пусть снежная падет пороша,—
вот дума, горе сокруша,
восходит, как хрусталь, ясна.
О юность, ты в миру одна
прельстительна и непорочна.
Теней напевы, белый явор
и звонкий тесаный порог.
Так и глядят из детской яви
истоки всех моих дорог.
1934