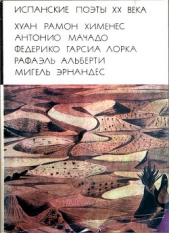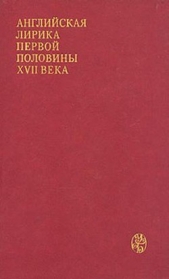Если они умножают —
то умножают капли крови животных.
Если они делят —
то делят капли крови людей.
Если они складывают —
то складывают реки крови.
Эти реки бегут с песней
по спальням далеких окраин
и, превращаясь в цемент,
серебро или ветер,
вливаются в лживый рассвет Нью-Йорка.
Существуют горы, я знаю.
И телескопы, чтоб смотреть в небо.
Я знаю. Но я не приехал смотреть в небо.
Я приехал, чтоб видеть кровь,
текущую по приводным ремням,
кипящую вместе с водой у плотин.
Каждый день убивают в Нью-Йорке
три миллиона уток,
пять миллионов свиней,
две тысячи голубок — любимое блюдо
этого бьющегося в агонии города,
миллион коров,
миллион баранов
и миллион петухов звонких,
что по утрам раскалывают небо песней.
Лучше, нож наточив, мчаться,
забыв обо всем, в охоте дикой,
бросая любимых собак под зубы зверя,
чем видеть, как на рассвете
ползут по Нью-Йорку
бесконечные обозы молока,
бесконечные обозы крови,
обозы роз, разорванных в клочья
фабрикантами парфюмерных фабрик.
Утки и голуби,
бараны и свиньи
льют свою кровь по каплям,
чтоб капли можно было умножать.
И мычанье тощих коров,
из которых выжаты все соки,
наполняет ужасом долину,
где Гудзон упивается маслом нефти.
Я обвиняю всех,
кто забыл о другой половине мира,
неискупимой и неискупленной,
воздвигающей цементные громады
мышцами своих сердец,
биение которых пробьет стены
в час последнего суда.
Я плюю вам в лицо.
И та половина мира слышит меня,
поедая свой хлеб, распевая песни,
с душою чистой,
как у маленьких нищих,
роющих прутиком кучи отбросов,
где гниют крылья мух.
Это не ад, это улица.
Это не смерть, это фруктовая лавка.
Я вижу необозримые миры
в сломанной лапке котенка,
раздавленного вашим блестящим авто,
я слышу, как червь сосет сердце
маленьких девочек голодных.
Это кипенье, броженье, дрожанье земное.
Это сама земля плывет
сквозь конторские цифры.
Что прикажете делать?
Подкрашивать эту картину?
Воспевать любовь, забыв,
что вы ее превратили
в фотографии желтые, доски гробов
и плевки чахотки?
Нет, нет, нет! Я обвиняю!
Я обвиняю проклятье
пустых контор с закрытыми дверями,
где не слышна агония страданья,
куда не проникает воздух леса!
Я себя отдаю охотно
на съеденье тощим коровам,
что оглашают мычаньем долину,
где Гудзон упивается маслом нефти.