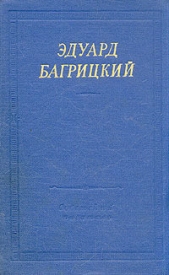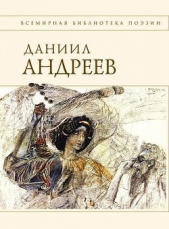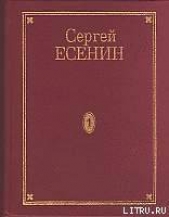Стихотворения. Поэмы

Стихотворения. Поэмы читать книгу онлайн
«Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого слова!» – писал И. А. Бунин о поэме «Василий Теркин» Александра Твардовского – выдающегося русского поэта с драматической судьбой. Поэма «Василий Теркин» стала одной из вершин творчества поэта, в которой во всей полноте ожила народная душа. В книгу также включены поэмы «Страна Муравия» («высокую культуру стиха» уже в этой поэме отмечали Б. Пастернак и Н. Асеев), «Дом у дороги», «За далью – даль», «Теркин на том свете», «По праву памяти», в которой описана трагическая судьба отца Твардовского – раскулаченного и сосланного крестьянина-кузнеца; пейзажная лирика, военные стихотворения и стихотворения последних лет, рассказы и очерки.
Вступительная статья и примечания А. Македонова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хозяин вернулся с книгой в руках, похохатывая и лопоча что-то, что наш художник не стал нам переводить. Это была поганая книжка, состряпанная в недрах американской разведки и приобретшая одно время незавидную известность в результате судебного процесса в Париже. Факсимилированная подпись мнимого автора книжки была сделана латинскими буквами, и в сочетании с русским звучанием фамилии это было лучшим свидетельством ее «подлинности». Такой «литературой» американцы наводняют книжный рынок европейских стран, в частности Норвегии. Я уже знал, что не только многих лучших произведений советской литературы, известных в Норвегии по английским переводам, но и многих книг наших классиков нет на норвежском языке. А грубая, клеветническая фальшивка, подписанная именем уголовного типа с русской фамилией, переведена и издана в Бергене объемистым томом ценою в двенадцать крон и нашла своего покупателя и читателя в лице нашего хозяина.
Взглянув на книгу, мы возвратили ее владельцу. Он был разочарован – он, видимо, надеялся произвести гораздо большее впечатление на нас. Он точно собирался поймать нас на чем-то. Я долго не мог забыть его смеха, его развязной улыбки, обнажающей добротный протез челюсти, в котором для натуральности блестел даже один золотой, будто бы единственный мертвый зуб.
Судьба двух Иванов, двух моих соотечественников, может быть даже земляков, конечно, теперь уже не может проясниться: добрались ли они до своих, живы ли они, довелось ли кому из них дойти до Берлина вместо со своими братьями по оружию? Но кое-что о них, а может быть, и не о них, но таких же, как они, людях суровой и жестокой судьбы, замечательной силы духа, отваги и воли, кое-что мне еще удалось услышать в Норвегии.
В дни нашего пребывания в качестве гостей на конгрессе общества «Норвегия – СССР» в небольшом городке Хаслемуене, в ста шестидесяти километрах от Осло, состоялось открытие нового памятника советским воинам, погибшим на норвежской земле. Памятник был сооружен на братской могиле тридцати семи наших солдат и офицеров, замученных и расстрелянных гитлеровцами.
В 1943 году, в июле, двадцать советских военнопленных бежали из концлагеря, расположенного вблизи Хаслемуена. Это было неслыханно дерзкое, немыслимое дело, приведшее фашистов в неистовство. Двадцать человек в течение неизвестного срока провели подземный лаз длиной около ста метров, который и вывел их за проволоку, в лес.
Этот лаз был вырыт ложками, земля была вынесена в карманах и рассыпана на площадке лагеря. Местами он теперь обвалился, и можно видеть, что вели его на большой глубине, обходя скалу. Работать там можно было только по одному, – это нора, в которой нельзя было даже развернуться; человек доползал до конца норы, набивал грунтом карманы или насыпал его за рубаху и задом выбирался обратно. Нужно еще учесть, в каком физическом состоянии были люди, отважившиеся на это дело и выполнившие его. Подкоп шел из барака лагерного «госпиталя», где содержались люди, дошедшие до самой крайности истощения, обессиленные незаживающими ранами. В день побега в лагере умерло семнадцать человек от голода и ранений, с которыми они прибыли в лагерь. Можно полагать, что это число не является исключительным для лагеря смерти. Лагерное начальство, взбешенное фактом побега, при котором все двадцать человек скрылись бесследно в лесу, к концу дня отобрало двадцать человек заключенных, и они были расстреляны. Так как семнадцать человек, умерших в этот день, еще не были зарыты, их зарыли заодно с расстрелянными, и на том месте теперь воздвигнут памятник.
Тысячи людей сошлись и съехались в этот день к могиле тридцати семи замученных советских военнопленных. Женщины поднимали детей на руки и держали их над головами людской толпы, чтобы показать им скромный гранитный обелиск, засыпанный весенними полевыми и садовыми цветами, под которыми спят вечным сном люди, принявшие на себя безмерную тяжесть воинского труда, страданий и смерти во имя своей далекой родины, во имя мира, во имя жизни и этих норвежских детей, и всего рода человеческого.
А те двадцать, что бежали из лагеря? Известно, по рассказам жителей, что их не настигли, ни одного не поймали, хотя за поимку их были обещаны награды, а за помощь, за приют, который был бы им оказан, была объявлена смертная кара.
Может быть, о двух из этих двадцати мы и слышали на хуторе в Тюре-фиорде?
<1950>
О печниках, об их своеобычном мастерстве, исстари носившем оттенок таинственности, сближавшей это дело чуть ли не со знахарством, – обо всем этом я знал с детства, правда, не столько по живой личной памяти, сколько по всевозможным историям, легендам и анекдотам.
В местности, где я родился и рос, пользовался большой известностью печник Мишечка, как звали его, несмотря на почтенные годы, может быть за малый рост, хотя у нас вообще были в ходу эти уменьшительные в отношении взрослых и даже стариков: Мишечка, Гришечка, Юрочка…
Мишечка, между прочим, был знаменит тем, что он ел глину. Это я видел собственными глазами, когда он перекладывал прогоревший под нашей печи. Тщательно замесив ногами глину на теплой воде до того, что она заблестела как масло, он поддевал добрый кусок пальцем, запроваживал за щеку, прожевывал и глотал, улыбаясь, как артист, желающий показать, что исполнение номера не составляет для него никакого труда. Это я помню так же отчетливо, как и тот момент, когда Мишечка влезал в нашу печь и, сидя под низкими ее сводами, выкалывал особым молотком у себя между ног, раскинутых вилкой, старый кирпичный настил. Как он там помещался, хоть и малорослый, но все же не ребенок, я не мог понять: когда меня, простудившегося как-то зимой, бабка попыталась отпарить в печке, мне там показалось так тесно, жарко и жутко, что я закричал криком и рванулся наружу, чуть не скатившись с загнетки на пол.
Мне сейчас понятно, что невинный прием Мишечки с поеданием глины на глазах зрителей имел в основе стремление так или иначе подчеркнуть свою профессиональную исключительность: смотрите, мол, не каждый это может, не каждому дано и печи класть.
Но Мишечка, подобно доброму духу старинных вымыслов, был добр, безобиден и никогда не употреблял во зло людям присущие его мастерству возможности. А были печники, причинявшие хозяевам, чем-нибудь не угодившим им, большие тревоги и неудобства. Вмазывалось, например, где-нибудь в дымоходе бутылочное горлышко – и печь поет на всякие унывные голоса, предвещая дому беды и несчастья. Или подвешивался на тонкой бечевке в известном месте кирпич, и, по расчету, бечевка выдерживала первую, пробную топку печи, все было хорошо, а на второй или третий день она перегорает, обрывается, кирпич закрывает дымоход, печь не растопишь, и понять ничего нельзя, надо ломать и класть заново.
Были и другие фокусы подобного рода. Кроме того, одинаковые по конструкции печи всегда разнились в смысле нагрева, теплоотдачи и долговечности. Поэтому печников у нас, по традиции, уважали, побаивались и задабривали. Надо еще учесть, какое большое место в прямом и переносном смысле занимала печь в старом крестьянском быту. Это был не только источник тепла, не только кухня, но и хлебопекарня, и универсальная сушилка, и баня, и прачечная, и, наконец, излюбленное место сладостного отдыха после дня работы на холоде, с дороги или просто когда что-нибудь болит, ломит, знобит. Словом, без хорошей печи нет дома. И мне это досталось почувствовать в полной мере на себе, и я так много и углубленно думал до недавней поры о печках и печниках, что, кажется, мог бы написать специальное исследование на эту тему.
Мне отвели квартиру через дорогу от школы. Это крестьянская изба, подведенная под одну связь с двумя такими же избами, где жили другие преподаватели. Изба разгорожена на две комнаты, и перегородка приходится как раз посредине большой, комбинированной печи, выступающей в передней в виде кухонной плиты, а на другой половине в виде мощной голландки. Эта печь и была долгое время причиной моего крайне угнетенного настроения, тоски и порой почти что отчаяния. Стоило мне в классе на уроке или в любом ином месте, на людях или в одиночку, за любым делом вспомнить о доме, об этой печи, как я чувствовал, что мысли мои путаются, я не могу ни на чем ином сосредоточиться и становлюсь злым и несчастным.