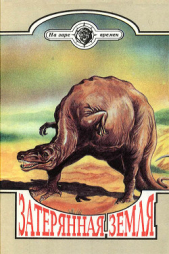Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля

Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля читать книгу онлайн
"Прощание" (1940) (перевод И. А. Горкиной и И. А. Горкина) - роман о корнях и истоках гитлеровского фашизма. Это роман большой реалистической силы. Необыкновенная тщательность изображения деталей быта и нравов, точность воплощения социальных характеров, блестящие зарисовки среды и обстановки, тонкие психологические характеристики - все это свидетельства реалистического мастерства писателя.
"Трижды содрогнувшаяся земля" (перевод Г. Я. Снимщиковой) - небольшие рассказы о виденном, пережитом и наблюденном, о продуманном и прочувствованном, о пропущенном через "фильтры" ума и сердца.
Стихотворения в переводе Е. Николаевской, В. Микушевича, А. Голембы, Л. Гинзбурга, Ю. Корнеева, В. Левика, С. Северцева, В. Инбер и др.
Вступительная статья и составление А. Дымшица.
Примечания Г. Егоровой.
Иллюстрации М. Туровского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как жаль, — сказал он и ущипнул меня, — что этого не было на самом деле, а? Вот бы нам, а?… Теперь мы, по крайней мере, знаем, что нам делать… гм! Надо будет наверстать… гм!
Мопс счел это предложение греховным и посоветовал мне обратиться к богу. Стоит только усердно помолиться, и бог обязательно ниспошлет мне свою помощь.
Утром и вечером, когда мы молились под звуки фисгармонии, я громко пел, широко разевая рот, и поглядывал на Мопса, а тот кивал мне, точно обращался к богу как раз по моему делу.
Широко разевая рты, мы возносили к богу наши песнопения.
Бог был неопределенностью, великой загадкой, овеянной неким расплывчатым чувством. Бог был тем грозным началом, чья сущность оставалась темной, он был гневом, перед которым бессильно всякое мужество, но он был и норой, куда можно было уползти от отца, он был горним прибежищем, к которому устремлялся взгляд, когда директор Ферч до крови дергал за волосы. Бог являлся в виде певучего, грудного голоса и стоял на мольберте в нашей гостиной, окутанный светло-зеленым облаком. Бог был желанным «ты», когда не знаешь, к кому обратиться, кому сказать «ты».
XXIX
Только я решил положиться на волю божию, как меня вызвали к директору Ферчу. Едва переступив порог кабинета, я сразу начал нести несусветную чепуху про некую распутную женщину, и директор на этот раз не стал прибегать к «подтягиванию». Кадет успел основательно просветить меня, поведав вещи, мимо которых я до тех пор проходил в безмятежном неведении. Так как я знал о них только понаслышке, то излагал все эти гадости без всякого стеснения, связно и подробно, как того хотелось директору Ферчу, пересказывая все, чему научил меня Кадет. Ферч удовлетворенно поглаживал усы… Из-за рыжеватых зарослей до меня непрерывно доносилось благосклонное «гм-гм-гм-гм», и даже руку свою, эту маленькую изувеченную руку, он положил мне на плечо и сказал, что вот как хорошо: за каких-нибудь несколько дней моего пребывания в интернате ему удалось сделать из меня правдивого человека, не прибегая к ненавистной системе порки.
Горе тому, кому приходилось иметь дело с этой рукой, с этой маленькой изувеченной рукой! Опять у меня было впечатление, как в тот раз, когда я увидел перед собой на столе руку отца, что рука директора — это какое-то самостоятельное существо, единственное назначение которого поглаживать усы и «подтягивать» воспитанников. Весь директор, стоило мне мысленно представить его себе, воплощался в этой маленькой иссохшей руке. Казалось, голова, туловище, ноги только тянулись за ней; директор Ферч, верно, и сам трепетал перед ней, как бы она ему чего-нибудь не сделала… Гм…
Но этот воспитатель умел и завоевать наши сердца. Стоило ему приказать нам собраться во дворе и построиться но четыре в ряд, как он целиком завладевал нами. Под команду «шагом марш!» и с пением «Стражи на Рейне», класс за классом, точно рота за ротой, с палками «на плечо» шествовали мы во главе с директором Ферчем через весь Эттинген на свое учебное поле. Когда мы слышали, как гулко отдается топот наших шагов в узких улочках и как мощно вздымается наша песня к старинным стрельчатым крышам, когда мы видели, как прохожие останавливаются, нередко даже снимают шляпы и подхватывают песню, а из раскрытых окон люди смотрят нам вслед и перекликаются: «Интернат святого Иоанна идет!» — директор Ферч превращался для нас в полководца, и мы были преисполнены гордости от сознания, что он ведет наше воинство, осененный невидимым знаменем, и готовы были жизнь положить, если бы потребовалось, но исполнить его волю. Маршировка, команды «ложись!» и «перебежками, марш!» были для нас после постылого школьного дня золотыми часами свободы. Здесь энергия наша находила выход, здесь мы могли развернуться и показать силу, ловкость.
Делегация, составленная из воспитанников разных классов, отправилась к директору Ферчу ходатайствовать об устройстве военных игр. Директор Ферч не только согласился, но даже пообещал приобрести за счет интерната необходимые карты местности. Нас охватил такой военный азарт, что у ворот пансиона мы поставили караул, ежечасно сменявшийся по всем правилам воинского устава. Воспитанники младших классов обязаны были отдавать честь старшим, а обращаясь к ним, становиться во фронт.
Первая военная игра была проведена в воскресенье и началась ровно в восемь утра, так что даже посещение церкви было отменено. Раздав всем карты, нас разделили на две воюющие армии, отличавшиеся друг от друга синими и красными нарукавными повязками. «Синие» выступили на два часа раньше, чтобы занять свои позиции на лесистой, пересеченной местности. Мопс принадлежал к «синим». Кадет и я входили в состав «красных», которые вели наступление.
Через два часа нас с Кадетом послали в разведку, мы изображали «верховых» и пустились вперед рысью, а за нами сомкнутыми рядами двинулась пехота.
«Спешились» под откосом, и тут пошло: мы то ползали на животе, то выглядывали из-за прикрытия, и так как у нас был полевой бинокль, то нам вскоре удалось определить местонахождение передовых позиций противника, расположенных на лесной опушке.
И снова то же упоительное чувство — сознавать себя частицей организованного целого и подчиняться единому руководству: чувство это преображало слепое подчинение приказу в некий добровольный акт.
Вот начался трудный обходный маневр: нам пришлось пересечь болото и вброд форсировать ручей. К концу дня «противник» был наконец окружен. Попытка прорваться ни к чему не привела: после короткого сопротивления «синие» сложили оружие.
При попытке «синих» прорваться Мопс бросился на меня с занесенной саблей, а я ударом снизу со всего размаху «всадил ему штык в живот» и настолько вошел в роль, что уже всерьез видел в Мопсе злейшего врага. Прошло немало времени, прежде чем я забыл этот военный эпизод, и только после долгих уговоров Мопсу удалось наконец убедить меня помириться с ним.
Игра в войну надолго завладела нашим воображением. Я жалел, что Фек и Фрейшлаг не видят этих военных игр, что я не могу хотя бы рассказать им о своих неповторимых, изумительных переживаниях. Дома, реки, холмы и леса мы воспринимали теперь только как объекты нападения или защиты. Мы возводили укрепления, оценивали дистанцию. Груды хлама и кустарник на школьном дворе служили нам для устройства засад, и каждый из нас охотно давал разок «убить» себя из засады. Мы выставили на нашем дворе дальнобойные орудия; взмахнув саблей, я, командир батареи, командовал: «Наводи!», и мы принимались обстреливать Нердлинген: вот и «Верзила Яков», самая высокая колокольня нердлингенского собора, зашатался от угодившего в купол снаряда; к небу взметнулся зловещий столб дыма — и перед нами уже только груды тлеющих развалин…
— Рад стараться! — рявкал я, счастливый, и щелкал каблуками. Наконец-то я знал, куда девать руки, которые всегда болтались как ненужные и которыми я всегда смущенно поигрывал: руки надо было держать по швам. А ноги при маршировке я вскидывал чуть не до плеч.
Если до сих пор я писал родителям из-под палки и только по воскресеньям, то теперь я охотно принялся за письмо среди недели. Я подробно описал свои военные впечатления и заявил, что непременно хочу определиться в армию. Это письмо разминулось с письмом из дому, где отец извещал меня, что рождественские праздники мне придется провести в интернате: мои «похождения» исключают возможность скорой встречи с родителями. Так, значит, директор Ферч донес родителям о моей исповеди! Я обрадовался, теперь моя совесть могла быть спокойна, все равно уже поздно отрекаться от покаяния…
Когда директор Ферч впервые подверг меня «подтягиванию», я мысленно обозвал его жандармом и палачом, которому отец меня передоверил. А теперь «подтягивание» стало как бы частью военной игры, мы превратили в эту игру всю нашу жизнь в интернате. Я тоже уверовал, что «подтягивание» — это лучший способ закалить нас и сделать настоящими мужчинами. Раньше мы как могли облегчали страдания всем, кто подвергался пресловутому «подтягиванию»: обмывали окровавленные места, прикладывали примочки. Теперь же воспитанник, подвергшийся «подтягиванию», вдобавок еще зачислялся нами на три дня в «штрафные»… Так мы сами содействовали упрочению сурового режима и казались себе мужчинами и солдатами оттого, что жестоко карали самих себя. Разговаривая друг с другом, мы каждую фразу обязательно сопровождали коварным «гм!». Это делалось совершенно серьезно, и Кадет, который обычно этим «гм» передразнивал нашего директора, теперь не смел себе этого позволить.