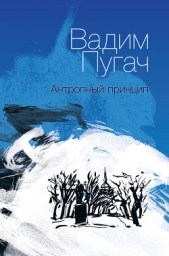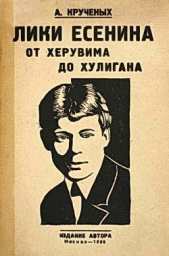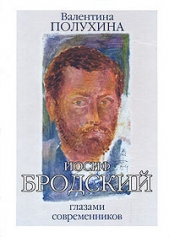Любовь выбирает окольные тропы,
Плетется по краешку, сходит на нет.
Поэт выбирает фигуры и тропы,
Балладу, канцону, секстину, сонет.
И фрукты, и злаки, и всяческий овощ
Рождает земля с сорняком наравне.
Сон разума Гойи рождает чудовищ,
Сон чувства героев – чудовищ вдвойне.
Стола эпоха прогулок на лоне
Природы, на фоне картин городских,
И в чашечке кофе с сосиской в «Сайгоне»
Была максимальная близость для них.
Их мнительность, их нерешительность, вялость,
Ненужная холодность, плоский расчет…
Ах, он сомневался, она сомневалась,
Вода обжигает, а время течет.
Ах, он не в ударе, она не в ударе,
Слепец не помощник другому слепцу,
А рядом летают тошнотные твари,
Колючим крылом норовя по лицу.
Под столиком пол обживают мокрицы,
Крестовый поход объявляет паук,
За стойкой вампир фиолетоволицый
На новую ночь намечает подруг.
Чета василисков сошлась в поединке,
Седой францисканец сосет карбофос,
Сирена отставила в угол ботинки
И когти стрижет, напевая под нос.
И разухаебистый этот мотивчик
Летит через зал в отдаленный конец,
Где вместо панамы использует лифчик
Единый в двух лицах сиамский близнец.
В разбитое зеркало самка дракона
Глядит, отражению пальцем грозя.
Любить без оглядки – иного закона
В таком балагане придумать нельзя.
Не стать в этом сонмище вещью трофейной,
Испуганно в сторону взгляд не кидать,
Не дать утопить себя в гуще кофейной,
Любить, и хоть этим снискать благодать.
Нет хуже – увязнуть в своем хронотопе,
В клубящейся бездне, бездонной глуби.
Люби. И не думай о близком потопе.
Он был и еще повторится. Люби.
Жил человек с лицом енота,
Несвеж, плешив и полнотел.
Когда была к тому охота,
Он басни плел, столы вертел.
И, проживая с дочкой вместе
(Любовью оной был вокал),
Нелепым слухам об инцесте,
Смешно признаться, потакал.
Все то, чего коснулась порча,
В нем возбуждало аппетит,
Любая разновидность торча
Его тянула, как магнит.
Раз в месяц, скажем, в третью среду,
Сзывал он кухонных светил.
Герой, бывало как к соседу
К нему их слушать заходил.
Установив подобье круга,
Легко выстраиваем связь:
Так, героинею подруга
Хозяйской дочери звалась.
А в дочь, сухую, как картонка,
Зато поющую с пелен,
Наш персонаж безумно, тонко
И безнадежно был влюблен.
Теперь о прочих. Завсегдатай
Там был специалист по ню,
Как все маэстро, бородатый
И датый десять раз на дню.
Гремел по потайным салонам
Шедевр в классическом ключе:
Девица с газовым баллоном
На темно-розовом плече.
Там был поэт. Увы, длинноты
Его томительных рулад
Рождали тягостные ноты,
Душевный кризис и разлад.
Был композитор. Сбивши свистом
Авторитеты наповал,
«Фон» оставлял он пейзажистам
И только «како» признавал.
Сходилось человек по двадцать
Извлечь дымок из папирос,
Попить вина, романсик сбацать
И духа вызвать на допрос.
Зашел однажды спор не новый:
Где ставит божество печать?
Как недурное от дурного
В литературе отличать?
За полчаса дошли до хрипов.
Тогда художник молвил: «Ша!
У вечных образов и типов
Должна быть вечная душа».
И плетью ворона по перьям,
Пса по ушам, коня по ребрам
Енот ударил. «Что ж, проверим, —
Сказал он голосом недобрым, —
Мы вызовем его». «Кого же?» —
Спросил томительный поэт.
И дочь Енота из прихожей
Внесла потрепанный берет.
И вот он полон предложений.
Перемешали раз, другой,
И выпал пушкинский Евгений,
Но не Онегин, а изгой.
Стол опустел, и свет погашен,
Сидят, как чудища в ночи.
И только, одинок и страшен,
Змеится огонек свечи.
Был в этом зыбком переплясе
Какой-то шип, какой-то шорох.
И вдруг на воздух поднялася
Свеча и пламенем на шторах
Чертит причудливые знаки,
И – сверк, и нет ее нигде.
Но буквы светятся во мраке:
«Любви бегите. Быть беде».