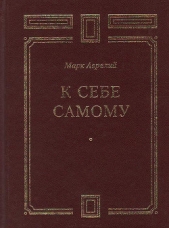Со зрачками пустыми невидящих глаз,
Растворяясь в потоке предметов,
Он ловил и предметы, и призраки фраз,
Проплывавшие где-то в поэте.
Во блаженном рассеяньи боком толкнул
– Без поклона – знакомую даму,
Но запомнил глаза, и пропеллера гул,
И огни пробегавшей рекламы
Заглядевшись на облачно-синюю твердь, –
На араба с летящим бурнусом, –
Он едва не обрел себе жалкую смерть
Под трубящим слоном автобуса.
В направлении смутном куда-то домой
Изучал на витринах ненужный
Абсолютно ему пылесос и трюмо.
Но забыл запасти себе ужин.
И когда на углу засветился фонарь
Бледной зеленью – газовым светом, –
Он, довольный, сосал прошлогодний сухарь.
Дописав окончанье сонета.
Земля задыхалась. Но капали
В потемки над городом жадным
Падучие буквы реклам.
Земля задыхалась. По кабелям, –
И без кабелей, – в выси прохладной
Бил в уши настойчивый гам.
Но не было жизни насыщенней,
И острей не натягивал нервов
И не был бешеней бег.
Чем в дни до величия хищные.
Чем в еще небывалый и первый,
В мой бьющий безумием век.
А ночью торжественным пологом
Текли по бездонному своду
Стихи пламенеющих строф.
И только поэты-астрологи
Принимали по звездному коду
Далекий сигнал катастроф.
Видали ли вы, как сейсмографы
Ловят землетрясения незаметную дрожь,
Выводя на барабане в безмолвии погреба
Линию пульса – волнистую дорожку?
Заводное сердце прибора
Отстукивает стальной такт,
А где-то по скатам горным
Низвергается грузно раскат.
Но точней гальванометров одержимый,
В общежитии именуемый: поэт,
Ибо слышит он, как шагами незримыми
Печатает будущее след.
Он слышит: из черных глубин Апокалипсиса
Сквозит ледяной электрический ветер.
И поэтово сердце раскаливается
Аудионом радиосети.
Внимание! Указатель дрогнул, и вертится
В миллиметровом кружеве барабан.
Регистрирую время: девятьсот тридцать третий.
Отмечаю: близится ураган.
1933
Шаг вперед – два шага назад.
О, век Маратов и Бастилий.
Знамен и шапок алый мак!
На смену обреченных лилий
Вздымаешь ты свой дерзкий стяг.
Идут века. Они уносят
Твои наивные мечты:
Опять, как прежде, хлеба просят
При забастовках те же рты.
И снова улицам взмятенным
Грозит багровый отсвет твой:
Грозишь двухсотым миллионом
И пентаграммой над Москвой.
Но есть бессилье роковое
В делах твоих любимых чад:
Твое решение простое:
Ты – «шаг вперед и два назад».
И вот итог твоей работе.
Итог один во все века:
Лавуазье – на эшафоте,
И Гумилев – в тюрьме Чека.
Она уходит в самом деле быстро:
Считаюсь с тем, что молодость прошла.
Совсем как детство: как-то между прочим.
И передо мной стоит одна лишь юность.
Как день вчерашний, в памяти свежа.
Оно понятно: юность – мастерская.
(Увы, кустарная),
Где личности пришлось
Из матерьялов сборных создаваться. –
Так лепит дом ручейный червячок:
По замыслу единое заданье.
Но матерьялом – всё, что ни попало.
Что на постройку как-нибудь годится.
Печально это: я в другой бы раз
Получше постарался юность сделать.
Дано теперь: мужчина в тридцать пять:
Как будто бы поэт, а прочее
Не столь существенно в моем заданьи.
Мое заданье – отыскать
И описать самонужнейшее.
Существенное, важное в той жизни.
Которая тянулась тридцать пять –
Каких, когда, совсем не важно, – лет
Теперь могу: не многое,
Но кое-что могу.
И даже больше: знаю то,
Чего уже никак я не могу.
Ну, вот, хотя бы написать роман:
Такой, как тот, что нравится при чтеньи.
Как справка: ранее казалось,
Что всё сумею: стоит лишь начать.
Могу: себя заставить и принудить,
Держать себя в строю командой «смирно»,
Себя в пружину обратить,
В рабочий механизм,
И, стиснув зубы, позабыть,
Что мир есть что-то, кроме напряженья.
И этим я могу
Мне нужного действительно добиться.
Но все-таки и это всё не то,
Не то, что в самом деле важно.