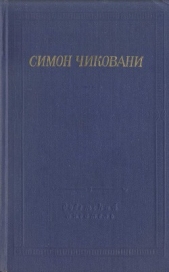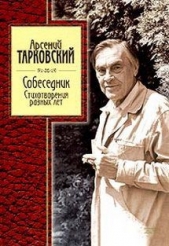Вот пришла и эта весна,
Просыхают отроги горные,
Тает снег об-он-пол горы,
Потемнели дороги торные.
Мечется Арагва, кипят
Пшав-хевсурские воды стылые,
Плачут, будто в могиле брат,
А сестра скорбит над могилою.
Выглянул фиалкин глазок,
Как сноха над фиалкой — чадуна [132],
А невестка хмельным-хмельна,
Дол кругом — как праздник негаданный.
Разукрасила мир весна
Где листвой, где цветами нежными.
Только сердце мое мертво,
Только сердце мертво по-прежнему.
На Эльбрусе ворон ворона
Окликает с камня седого:
«Просыпайся, брат, подымайся,
Время крылья расправить снова.
Пролетал я над долом давеча,
Ружья громыхали в Кахети,
Полегли в траву луговую
Матерей любимые дети.
Я — вперед, ты за мною пó следу,
Нам с тобой лететь недалече,
Очи выпьем у недоумков,
Исклюем увядшие плечи.
Кахетинцев много порублено,
Рук не хватит копать могилы.
Я терзал уже клювом острым
Теплые и сладкие жилы».
Наливай вина — и выпьем,
Выпьем, чтоб оно пропало! —
И пойдет прямой дорогой
Мир, бредущий как попало.
Потоплю я в турьем роге
Горечь сердца, злое горе,
Повстречаюсь я с любимой,
Погуляю на просторе,
Своего пришпорю Лурджу,
Вместе с Лурджой кинусь в море,
Много лучше смерть во славе,
Чем собачья жизнь в позоре.
Молодой боец не может
Видеть смысл во всяком вздоре.
Заболел я всей скорбью мира
Оттого и стал дударем.
Воры дудку мою украли,
Вот и плачу ночью и днем.
И на что она им, проклятым?
Не продать ее нипочем:
Солью слез ей глаза изъело,
Не украшен стан серебром.
Срезал я ножом безыскусным
Бузины тонкостенный ствол,
Из волос гонимых и нищих
Я колечки для дудки сплел,
В соловьиную горловину
Вдунул мира горький глагол,
А теперь втихомолку плачу,
Чтоб никто меня не нашел.
Пусть же вор могильную землю
Ртом щербатым ест не дыша!
О, как дико и нежно пела
Легкой дудки моей душа!
Ничего от вас не хотела,
Даже ломаного гроша,
И сама просилась мне в руки,
До того была хороша.
Мы сроднились, как брат с сестрою,
А теперь простились навек.
Слить бы голос ей с причитаньем
Синих гор, ущелий и рек.
Чтоб смеющийся, как ребенок,
Слезы лил и лил человек.
Был в горах, с вершины видал
Мир, припавший к дальним отрогам,
На груди светила держал,
Как пророк, беседовал с богом.
Мысль о благе мира была
Для души единственной мерой,
Жизнь и смерть во имя его
Были правдой моей и верой.
А теперь я спускаюсь вниз.
Тьма глотает меня в ущелье,
Злые думы с душой сплелись,
Сирым разумом завладели.
Сверху вниз брести наугад —
Горе мне! — как тяжко и томно…
Слезы не исцелят меня
На равнине этой бездомной.
О, зачем я себя обрек
На погибель без воздаянья
И сошел с горы? Чтобы стать
Тщетной жертвой? Чашей страданья?
Притомился лев, притомился,
Наступила старость на горло,
Наложила подать на мышцы,
Когти царские поистерла.
На поклон зверье не приходит,
Будто все окрест перемерло,
И никто его не жалеет,
И прошла пора золотая,
Та пора, когда выступал он,
Землю лапами прогибая,
Всю державу свою рычаньем
Потрясал от края до края.
Приутих недавний властитель,
Сердце старое плачет сиро;
Мнится, он давно уже болен:
На костях ни мяса, ни жира.
И чело его омрачает
Дума о вероломстве мира.
Притомился лев, притомился,
Наступила старость на горло,
Наложила подать на мышцы,
Когти царские поистерла,
Шкура у него заскорузла
И в груди дыхание сперло.
Из очей, когда-то прекрасных,
Тихо каплет мутная влага.
Кто тебя в беде пожалеет,
Жертва старости, царь-бедняга?
Где гордыня? Где величавость?
Где высокое бремя славы?
Весь ты в шрамах и гнойных язвах.
Что за зрелище, боже правый!
Холодает лев, голодает
И мышкует в поисках пищи,
За зверями по следу ходит,
Просит милостыни, как нищий.
Для себя охотится каждый,
Лев к тому же чужой породы.
Кто глупей, тот на нем, беззубом,
Вымещает свои невзгоды,
А еще иному приятна
Вечная жестокость природы.
Никому из зверей не жалко,
Что погасло львиное счастье,
Тигры льстивые даже рады
Одряхленью Кровавой Пасти;
Не таясь, олени выходят
И зовут соучастниц страсти.
Голодает лев, холодает,
Наступила старость на горло,
Наложила подать на мышцы,
Когти царские поистерла.
Лев минувшее вспоминает:
Звери на поклон приходили,
И валялось парное мясо
У могучих лап в изобилье.