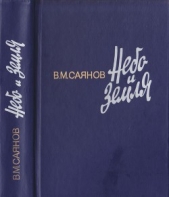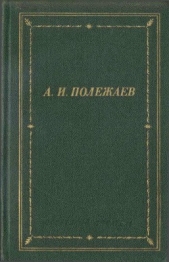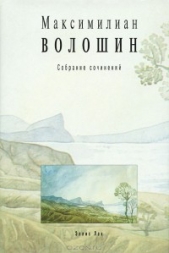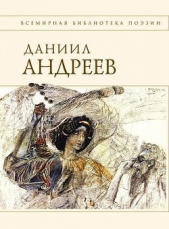КС После строфы 1.
После строфы 3.
Вместо строфы 5.
«Звезда», 1928. № 1.
От сумерек мира в немыслимом сходстве,
Сменяя обличье наречий и карт,
Не тенью на стены бросается отсвет
Булонского леса, Монмартра, мансард.
Нет! Живопись эта кружит, как в серсо, —
Квадратики, ромбы и кубы,
Пока прижимает к тебе Пикассо
Свои лиловатые губы,
Покуда синеет, покуда рассвет
На тысячу красок перебран,
Меняясь в наклейках и тая в росе
Над фабрикой «Хорто-дель-Эбро».
Вот сумерки века, искусства распад,
Немыслимый уговор братский,
Когда и палитры стучат невпопад,
И глохнут неверные краски.
Но всё же люблю я весь этот разор,
Размытые суриком тропы,
Где падает море от черных озер
На плоские крыши Европы.
Преддверие века, Марат и Конвент,
Сюда не доходят корнями,
И только спадает в узорной канве
Зеленый и синий орнамент,
Да плечи натурщиц, да розовый брод,
Да черного дерева контур,
В котором, как маятник, взад и вперед,
На ветке качается кондор.
Анютины глазки, к тюльпану тюльпан,
Петлицы драгунского смотра,
Но сразу врывается с песней толпа
В кромешный покой натюрморта.
От брамселей смятых, от низких бортов,
От мачт розоватого цвета,
Как песня, скользнувших с Марселя, с Бордо
За четверть часа до рассвета.
Что это? «Стремится душа в примитив»?
Бьют склянки, качается море,
И сразу спадает дикарский мотив,
Походная песня Маори.
Рубеж океанов. Гоген! Это ты,
Работа без срока, без пауз,
И легче, чем краска, врастает в холсты
Линейный стремительный пафос.
Но всё же от Лувра качается дым,
Горчит и мельчит непрестанно,
Хрипит перерезанным горлом твоим,
Пугает упорство Сезанна.
Искусство не медлит, а значит, оно
Для Франции слишком опасно,
И каждый из тех, кто свергает канон,
Не сын ей при жизни, а пасынок.
Я вышел шатаясь, и сразу насквозь
До края проняло гитарой.
На заячью шапку пахнуло Москвой,
Как своды Блаженного, старой.
Там падают струны, там глохнет бильярд,
Чадят папиросами «Ира»,
Притоны и церкви московских бояр,
Всё столпотворение мира.
Но сразу за этим развалом — закат
И песня про рыжего Джона,
И долго на город глядят свысока
Щербатые трубы Гужона.
1927
«Новый мир», 1928, № 10.
Привычка фамильярничать с героем,
Быть с ним на ты и свысока
Глядеть на жизнь его, на мелкие забавы,
На самую любовь героя к героине —
Уже давно вошла в литературу.
Конечно, нет рецептов, по которым
Смогли бы мы живописать героя,
Как нет, понятно, точных указаний
На все детали в нашем ремесле.
Но слышишь, как классической повадкой
Над паводком всех наших пресных рек,
Над полупресной бурей с Финского залива,
Над льдами в Северном Полярном море
Встает совсем особенный герой.
Когда в пятнадцатом столетья герцог Альба
Вошел с солдатами своими в Нидерланды,
В страну, где на горшке,
На пузыре свином,
На тонкой камышинке
Наигрывали роковые песни
Столетиям, идущим под уклон, —
Один из тех полков, которые жестокость
Неистового герцога узнали, восстал
И перешел к врагам, чтобы сражаться
Под знаменем мятежных Нидерланд.
Спешило поздней ночью донесенье
Полковнику восставшего полка:
«Полковник! Вы и каждый из вашего отряда,
Попавшийся мне в руки,
Повешен будет палачом отменным
На первом подвернувшемся столбе».
Полковник оглянулся:
Дорожные качалися столбы,
И от зеленых перекладин лип
Ложилась тень на узкую дорогу,
Но пар вставал от розовых подпалин
Замученных и пристальных коней,
А волонтер сидел на барабане,
Трактирщицу взыскательно обняв.
И написал тогда в ответ полковник:
«Я облегчаю ваш непроходимый труд,
Любой солдат из нашего полка отныне будет
Носить с собой веревку, гвозди к ней
И весь набор, потребный палачу
Для скорого свершенья приговора».
Полковник знал, что делал, — ни один солдат
Не сдался в плен живым, а большинство
Оставшихся в строю — после конца войны
Носили на плече, как знак кромешной славы,
С веревкой крепкою два ржавые гвоздя.
Должно быть, такова всегда судьба героев:
Узнав лицо беды, лицом к лицу
Смотреть на смерть и солнце,
Не отводя глаза
От черного слепительного света.
И мой герой — не малохольный мальчик,
Не меланхолик с тростью и плащом,
Не продувной гуляка, о котором
Кругом дурная песенка бежит.
Нет, человек обыденных примет,
Невзрачного геройства,
Не ради славы и жизнь саму приемлющий
И смерть,
Но делающий подвиг потому,
Что иначе он поступить не может, —
Единственный понятный мне герой.
Он за станком в тяжелой индустрии,
Он за кайлой на горных приисках,
Он плуг ведет по всем полям Союза,
Он — кочегар, он — летчик, он проходит
Сквозь жаркие теснины океана,
Сквозь духоту всех четырех стихий.
Но мы пока в глуши
Блуждаем между четырех деревьев
И неумело создаем героев.
Они у нас приглажены Наведен
На них известный лоск Они решают
Вопросы пола, влюбляются, страдают
На фоне модной, несомненно, темы.
И пафос весь уходит на любовь.
И вот живет писчебумажный мир:
Героя в чернильный ад ввергают за грехи
И в картонажный рай за доблести возводят.
Слепая ночь восходит над Европой,
Заря шумит над нашею страной.
Уже идет герой в литературу прозы,
Сквозь дым и гарь, сквозь корректуры,
Как через весь громоздкий этот мир.
1927