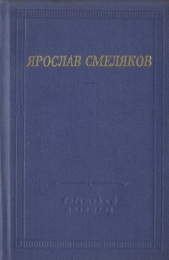В журналах своих и в газетах,
среди стихотворных красот,
не слишком ли часто поэты
тебя поминают, народ?
В стихах, обращенных к потомкам,
в поэмах, идущих чредой,
мы, может быть, слишком уж громко
клянемся тебе и тобой.
Наверно, признанья всё те же
прискучило людям читать,
и надо б и тише и реже
об этой любви заявлять?
…Когда-то — чего не бывало? —
В Сибири средь падей и гор
с квантунским одним генералом
пришлось мне вести разговор.
Свое любопытство смиряя,
запомнил я больше всего
потушенный взгляд самурая,
огромные уши его.
Подавленный новою ролью
(однако же к ней он привык),
как лагерной траченный молью
бобровый его воротник.
Не ждя от начальников красных
за это и малых щедрот,
незлобно и даже бесстрастно
он собственный хаял народ.
И так выходило, что вроде
он сам-то доволен собой,
но лучше б его благородью
в стране подвизаться иной.
Ему, как начальнику штаба,
в другой бы империи жить,
и он уж сумел бы тогда бы
не так о себе заявить.
Он должен сказать откровенно,
что, если б не жалкий народ,
тут пахло бы вовсе не пленом,
другой бы пошел оборот.
И он бы в недальнее зданье,
куда лейтенант вызывал,
не бегал давать показанья,
а сам бы себя показал.
…В поэты бы мы не годились
и песни писать не могли,
когда бы тобой не гордились,
народ нашей общей земли.
Мы, может, писали и плохо,
но то, что душа нам велит.
Не знаю, простит ли эпоха,
а русский читатель простит.
Мы счастливы, русские люди,
тем счастьем заглавным, большим,
что вечно гордимся и будем
гордиться народом своим.
1967 (?)
Не так, конечно, как Есенин,
но всё ж нередко второпях
я был предельно откровенен
и в личной жизни, и в стихах.
Я сквозь окно глядел украдкой,
как весь апрель уже подряд
у моря делали зарядку
динамовцы и «Арарат».
А у меня своя зарядка,
она спортсменам не нужна:
две сигареты для порядка,
стакан грузинского вина.
Потом центральные газеты
покажут время и Москву.
Не знаю, как живут поэты,
но я-то только так живу.
1966–1968
Был день февраля по-февральскому точным,
окрестность сияла белее белил,
когда невзначай в магазине цветочном
корзину сирени я вдруг укупил.
Являя безмолвный образчик смиренья,
роняя — уже — лепестки на ходу,
я с этою самою белой сиренью
по городу зимнему быстро иду.
В ушах у меня воркованье голубки,
встречающей мирно светящийся день,
смеются и валенки, и полушубки:
«Сирень появилась! Смотрите, сирень!»
Так шел я, дорогу забыв на квартиру,
по снегу, как истинный вестник весны,
как мальчик с цветущею веткою мира
проходит, закрыв полигоны и тиры,
по дымному полю глобальной войны.
1968
Последний час стучит всё ближе,
виднее заповедный срок,
и я в дверях беру не лыжи,
а неказистый посошок.
Не посох выспренний пророка,
который риторичен всё ж,
а тот, с каким неподалеку,
но тихо как-нибудь дойдешь.
И я иду неторопливо,
снежок январский шевеля,
сквозь полускрывшиеся нивы
к тебе, последняя земля.
Иду дорогой заметенной,
боясь неправильно свернуть,
и посошок мой немудреный
прямой указывает путь.
1968
Земля российская богата
в своей траве, в своих цветах.
Все колокольчики когда-то,
как будто сельские набаты,
гремели вечером в степях.
Потом их подрезали косы,
чтоб большей не было беды.
Они ложились безголосо
в тяжеловлажные ряды.
Их после вилы поднимали,
неся над самой головой.
Цветы несмело обретали
как бы ушедший голос свой.
Но, получив жестокий опыт
своей возлюбленной земли,
они уже на общий шепот
в стогах и копнах перешли.
Потом на дровнях удалялись,
роняя по дороге прах,
и губы конские купались
в траве увялой и цветах.
Так начиналась жизнь вторая,
идя всё той же стороной:
ведь колокольчики Валдая,
то раскатясь, то затихая,
звенят и плачут под дугой.
1968