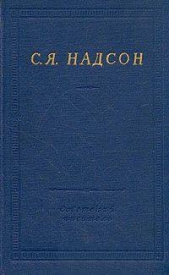Вчера, при блеске свеч, в двенадцатом часу,
Ты слушала меня с улыбкою участья,
И мне казалося: вот-вот перенесу
Тебя в цветущий мир безумия и счастья.
Сегодня — боже мой! — я путаюсь в словах,
Ты смотришь на меня и трезво, и обидно, —
И как об этих двух подумаю я днях,
То нынешнего жаль, а за вчерашний стыдно.
Какая горькая обида:
Я завтра еду. Боже мой!
Как будто к области Аида
Темнеет путь передо мной.
Как, после нежного похмелья
От струй пафосского вина,
Уединенная мне келья
Теперь покажется душна!
Но, верен сладостной тревоге,
В степи безбрежной и в лесу,
По рвам, по каменной дороге
Твой образ чистый понесу.
И сохраню в душе глубоко
Двойную прелесть красоты:
И это мыслящее око,
И эти детские черты.
К окну я в потемках приник —
Ну, право, нельзя неуместней:
Опять в переулке старик
С своей неотвязною песней!
Те звуки свистят и поют
Нескладно-тоскливо-неловки…
Встают предо мною, встают
За рамой две светлых головки.
Над ними поверхность стекла
При месяце ярко-кристальна.
Одна так резво-весела,
Другая так томно-печальна.
И — старая песня! — с тоской
Мы прошлое нежно лелеем,
И жаль мне и той и другой,
И рад я сердечно обеим.
Меж них в промежутке видна
Еще голова молодая, —
И всё он хорош, как одна,
И всё он грустит, как другая.
Он предан навеки одной
И грусти терзаем приманкой…
Уйдешь ли ты, гаер седой,
С твоей неотвязной шарманкой?
Дай руку мне, дай руку, пери злая,
Хоть раз еще приветливо взгляни,
Горячкой рифм восторг мой объясняя,
Влюбленного поэтом не брани.
Ревнивые лишь с тем хариты дружны,
Кто забывать для них готов весь свет.
Коль жителям Олимпа жертвы нужны
И сердца кровь — плохой же я поэт.
Пусть музами навек оставлен буду,
Пусть Феб меня карает за грехи, —
Под хохот твой я музу позабуду,
За поцелуй я все отдам стихи.
Люди нисколько ни в чем предо мной не виновны, я знаю,
Только я тут для себя утешенья большого не вижу.
День их торопит всечасно своею тяжелой заботой,
Ночь, как добрая мать, принимает в объятья на отдых.
Что им за дело, что кто-то, весь день протомившись бездельем,
Ночью с нелепым раздумьем пробьется на ложе бессонном?
Пламя дрожит на светильне — и около мысли любимой
Зыблются робкие думы, и все переходят оттенки
Радужных красок. Трепещет душа, и трепещет рассудок.
Сердце — Икар неразумный — из мрака, как бабочка к свету,
К мысли заветной стремится. Вот, вот опаленные крылья,
Круг описавши во мраке, несутся в неверном полете
Пытку свою обновлять добровольную. Я же не знаю,
Что добровольным зовется и что неизбежным на свете…
На лес насунулися тучи,
Морозит — трудно продохнуть.
Ни зги не видно, вихрь колючий
Сугробом переносит путь.
О, как он путнику несносен!
Но вот надежда — огонек
Блеснул звездою из-за сосен:
Приют знакомый недалек.
Стучусь с уверенностью давней…
Знакомый голос за стеной;
Как прежде, луч, скользя меж ставней,
Ложится яркой полосой.
«О, выйди! Это я!..» Напрасно!..
Я слышу голос, вижу свет, —
Всё так безжизненно, бесстрастно:
Ответа нет, привета нет!
Давно ль сюда рвался так жадно
Я с одинокого пути?..
Здесь умирать так безотрадно,
И сил нет далее брести!
Где нимфа резвая, покинув горный ток,
Вплетает гиацинт в свой розовый венок,
На мирных пажитях, в лесу прохладной Иды,
Где землю посещать привыкли Ураниды,
Сияньем царственной красы окружены,
Красавцу пастырю предстали три жены.
«Будь, юноша, судьей, — скажи мне, не меня ли
Царицей красоты глаза твои признали? —
Сказала первая, опершись на копье. —
Как солнце разума, горит лицо мое;
Со мной беседовать, мои встречая взгляды,
Фригиец, — выше нет и для богов награды!
Подняв румяный плод, вручи его ты той,
Что вправе изо всех владеть твоей душой, —
И, если мудрости ты верен был доныне,
Я знаю, яблоко достанется Афине».
С румянцем, вспыхнувшим мгновенно вдоль ланит,
«Послушай, юноша, — другая говорит, —
С подвластным божеством не только спор — сравненье
Супруге и сестре Зевеса униженье.
Но, встретив раз меня, всё, что живет кругом,
Не может не сказать: как почивает гром
В небесной синеве, безмолвной и глубокой, —
Так силой светит взор у Геры волоокой.
Божественная грудь, чиста как горний цвет,
Приемлет лишь того, кто потрясает свет.
Когда вступаю я в небесные чертоги,
Не люди предо мной покорствуют, а боги…
И если правым я тебя найду судьей,
Не пастырь — царский сын стоит передо мной».
И третья говорит, к ногам покров роняя:
«Владычица сердец перед тобой нагая.
Небесный душный свод не родина моя,
На берегу морском из пены вышла я.
Но не мудрец теперь, не сын царя прекрасный,
Пусть юноша судья нам будет беспристрастный.
Мой дар божественный не мудрость и не власть,
Нет! я внушу тебе губительную страсть:
Ты сам падешь, падет отец твой, сестры, братья…
Но посмотри сюда: в горячие объятья
Я приведу к тебе подобную красу,
Могуществом моим любимцев вознесу,
И ваши имена, потомства достоянье,
Заменят Красоты обычное названье».