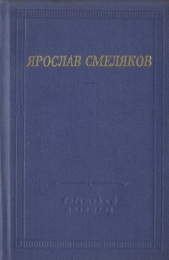Кругом тревожно и темно,
но по оплошке
светилось малое окно
в ночной сторожке.
Бессветно было на земле,
но всё же смело
свеча горела на столе,
свеча горела.
Вязала что-то там свое,
склонившись глухо,
не то жилет, не то белье,
одна старуха.
От оккупации устав,
в простенке малом
больной старик тревожно спал
под одеялом.
Вдруг прогремел дымящий ад
гудящим басом.
Взорвали партизаны склад
боеприпасов.
И на окраине села
ночная стежка
собак немецких привела
к окну сторожки.
Гестапо шло навеселе,
и в ночь расстрела,
как в ночь венчанья, на столе
свеча горела.
Под утро чуждая рука
неспешно, сухо
похоронила старика
с его старухой.
С тех пор во тьме большой ночи
с двойною силой
всегда горели две свечи
на двух могилах.
Кто их в ту пору зажигал,
узнать не силюсь,
но сам слыхал и сам видал:
они светились.
Не сомневайся, помолчи —
ведь в самом деле
всю ночь горели две свечи,
всю жизнь горели.
1967
Нет в песне цыганского склада,
романса не выкроишь тут.
Давно уж вблизи от Белграда
оседло цыгане живут.
По ранней росе спозаранку,
как водится, из году в год,
цыгане идут и цыганки
работать на местный завод.
И весело, словно галчата,
с утра и до ночи, подряд,
на задних дворах цыганята,
как им подобает, галдят.
В фуражках, украшенных кантом,
под гул канонады вдали
с железным крестом оккупанты
сюда из Берлина пришли.
И сразу же, как и в России
ушел в партизаны народ.
Умолкли гудки заводские,
командовать стал пулемет.
Не кормят ни мамка, ни тато
похлебкой родимой земли.
Собравшись гуртом, цыганята
работать на площадь пошли.
С утра и до вечера четко
с веселым отчаяньем там
летают их черные щетки
по кожаным тем сапогам.
Работа идет без помарки,
как будто «Цыган» черновик.
И падают мятые марки
в ладони проворные их.
Когда над гестаповской крышей
небесные звезды блестят,
застукали тех ребятишек,
отчаянных тех цыганят.
И сразу под мрачным конвоем,
всё выполнив в заданный срок,
их всех обреченной толпою
в недальний погнали лесок.
Какие тут слухи и речи?
Закрыт по-могильному рот.
Зато деловито навстречу
уже застучал пулемет.
Идя на предсмертную муку,
на плац счетверенный огня,
своим удивительным стуком
ответила вдруг ребятня.
На смертном рассвете туманном
у всех сыновей и внучат
по ящикам их деревянным
сапожные щетки стучат.
Над родиной непокоренной,
над сонмом мятущихся душ
звучит этот марш похоронный,
как словно бы праздничный туш:
«Эх, загулял, загулял, загулял
парень молодой, молодой,
в красной рубашоночке,
хорошенький такой!..»
Набитые спесью и жиром,
от стен заводских невдали,
не дрогнули те конвоиры
и фюрер немецкой земли.
Сработано намертво дело,
рыдает наутро семья.
Не бодрым стишком, а расстрелом
кончается песня моя.
1967
На свете снимка лучше нету,
чем тот, что вечером и днем
и от заката до рассвета
стоит на столике моем.
Отображен на снимке этом,
как бы случайно, второпях,
Ильич с сегодняшней газетой
в своих отчетливых руках.
Мне, сыну нынешней России,
дороже славы проходной
те две чернильницы большие
и календарь перекидной.
Мы рано без того остались
(хоть не в сиротстве, не одни),
кем мира целого листались
и перекладывались дни.
Всю сложность судеб человечьих
он сам зимой, в январский час,
переложил на наши плечи,
на души каждого из нас.
Ведь всё же будет вся планета
кружиться вместе и одна
в блистанье утреннего света,
идущем, как на снимке этом,
из заснеженного окна.
1967