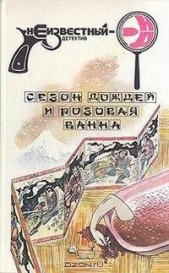Я муху безумно любил!
Давно это было, друзья,
Когда еще молод я был,
Когда еще молод был я.
Бывало, возьмешь микроскоп,
На муху направишь его —
На щечки, на глазки, на лоб,
Потом на себя самого.
И видишь, что я и она,
Что мы дополняем друг друга,
Что тоже в меня влюблена
Моя дорогая подруга.
Кружилась она надо мной,
Стучала и билась в стекло,
Я с ней целовался порой,
И время для нас незаметно текло.
Но годы прошли, и ко мне
Болезни сошлися толпой —
В коленках, ушах и спине
Стреляют одна за другой.
И я уже больше не тот.
И нет моей мухи давно.
Она не жужжит, не поет,
Она не стучится в окно.
Забытые чувства теснятся в груди,
И сердце мне гложет змея,
И нет ничего впереди…
О муха! О птичка моя!
Приятен вид тетради клетчатой:
В ней нуль могучий помещен,
А рядом нолик искалеченный
Стоит, как маленький лимон.
О вы, нули мои и нолики,
Я вас любил, я вас люблю!
Скорей лечитесь, меланхолики,
Прикосновением к нулю!
Нули — целебные кружочки,
Они врачи и фельдшера,
Без них больной кричит от почки,
А с ними он кричит «ура».
Когда умру, то не кладите,
Не покупайте мне венок,
А лучше нолик положите
На мой печальный бугорок.
Чарльз Дарвин, известный ученый,
Однажды синичку поймал.
Ее красотой увлеченный,
Он зорко за ней наблюдал.
Он видел головку змеиную
И рыбий раздвоенный хвост,
В движениях — что-то мышиное
И в лапках — подобие звезд.
«Однако, — подумал Чарльз Дарвин, —
Однако синичка сложна.
С ней рядом я просто бездарен,
Пичужка, а как сложена!
Зачем же меня обделила
Природа своим пирогом?
Зачем безобразные щеки всучила,
И пошлые пятки, и грудь колесом?»
…Тут горько заплакал старик омраченный.
Он даже стреляться хотел!..
Был Дарвин известный ученый,
Но он красоты не имел.
Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.
Козловым я был Александром,
А больше им быть не хочу!
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.
Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.
Собака при виде меня не залает,
А только замашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом…
Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.
Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки коньяк?
Я в зеркало глянул стенное,
И в нем отразилось чужое лицо.
Я видел лицо негодяя,
Волос напомаженный ряд,
Печальные тусклые очи,
Холодный уверенный взгляд.
Тогда я ощупал себя, свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал суконные брюки —
И сам я себя не узнал.
Я крикнуть хотел — и не крикнул.
Заплакать хотел — и не смог.
Привыкну, — сказал я, — привыкну.
Однако привыкнуть не мог.
Меня окружали привычные вещи,
И все их значения были зловещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога угрожала.
Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознанье мое разрывалось,
И мне не хотелося жить.
Я черного яду купил в магазине,
В карман положил пузырек.
Я вышел оттуда шатаясь,
Ко лбу прижимая платок.
С последним коротким сигналом
Пробьет мой двенадцатый час.
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!
Шумит земляника над мертвым жуком,
В траве его лапки раскинуты.
Он думал о том, и он думал о сем, —
Теперь из него размышления вынуты.
И вот он коробкой пустою лежит,
Раздавлен копытом коня,
И хрящик сознания в нем не дрожит,
И нету в нем больше огня.
Он умер, и он позабыт, незаметный герой,
Друзья его заняты сами собой.
От страшной жары изнывая, паук
На нитке отдельной висит.
Гремит погремушками лук,
И бабочка в клюкве сидит.
Не в силах от счастья лететь,
Лепечет, лепечет она,
Ей хочется плакать, ей хочется петь,
Она вожделенья полна.
Вот ягода падает вниз,
И капля стучит в тишине,
И тля муравьиная бегает близ,
И мухи бормочут во сне.
А там, где шумит земляника,
Где свищет укроп-молодец,
Не слышно ни пенья, ни крика
Лежит равнодушный мертвец.