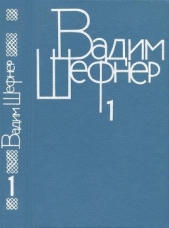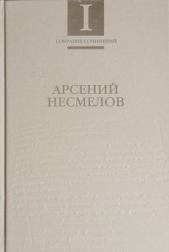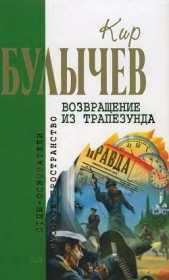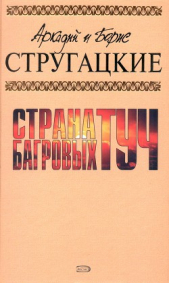На старинной остзейской гравюре
Жизнь минувшая отражена:
Копьеносец стоит в карауле,
И принцесса глядит из окна.
И слуга молодой и веселый
В торбу корм подсыпает коню,
И сидят на мешках мукомолы,
И король примеряет броню.
Это все происходит на фоне,
Где скелеты ведут хоровод,
Где художник заранее понял,
Что никто от беды не уйдет.
Там, на заднем убийственном плане,
Тащит черт короля-мертвеца,
И, крутясь, вырывается пламя
Из готических окон дворца,
И по древу ползет, как по стеблю,
Исполинский червец гробовой,
И с небес, расшибаясь о землю,
Боги сыпятся — им не впервой.
Там смешение быта и бреда,
Там в обнимку — чума и война;
Пивоварам, ландскнехтам, поэтам —
Всем капут, и каюк, и хана.
...А мальчишка глядит на подснежник,
Позабыв про пустую суму,
И с лицом исхудалым и нежным
Поселянка склонилась к нему.
Средь кончин и печалей несметных,
Средь горящих дворцов и лачуг
Лишь они безусловно бессмертны
И не втиснуты в дьявольский круг.
1. «Мой век, как пронзительно прав ты...»
Мой век, как пронзительно прав ты
В неброских оценках своих —
Костлявая, бледная правда
Милей, чем раскормленный миф.
Об истине голой радея,
Мы видим из нынешних дней
Под маской Сальери-злодея
Попроще лицо, поскромней.
По выкладкам новым и мненьям
Заглазно мы можем решить,
Что в прошлом с его осужденьем
Не следовало спешить.
Он был и талантлив не шибко,
И зависть порой проявлял,
Но в главное вкралась ошибка:
Он Моцарта не отравлял.
Он был в своей Вене оболган,
Молвой осужден без суда
Надолго, надолго, надолго —
Но все-таки не навсегда.
2. «Люблю тебя не без причины...»
Люблю тебя не без причины,
Эпоха, в которой живу:
Ты с мифов срываешь личины,
Не веря в седую молву.
Но венская выдумка эта
Вела к обличению зла, —
Она мудрецам и поэтам
Тревожным сигналом была.
И, как бы навек отраженный
Системой волшебных зеркал,
Развенчанный, но не сраженный
Нам Зависти облик предстал.
Пусть небыль о мертвом Сальери
Скорей порастает быльем —
Живут еще в мире сальери,
Живых мы, живых узнаем!
Ослепший воин в рыцарской броне
На минном поле повстречался мне.
Он шел, лица забралом не прикрыв,
Был шаг его неровный тороплив.
Я закричал:
«Неладно ты идешь:
Оступишься — костей не соберешь!
Зачем стремиться к цели напрямки,
Спокойному расчету вопреки?
Иди за мною — вот моя рука,
Ты здесь погибнешь без проводника!»
А он в ответ:
«В глазах моих темно,
Но верю в Солнце — выручит оно:
В меня объявшей горестной ночи
Я чувствую порой его лучи.
Свою тропинку для себя тори —
Я Солнце взял себе в поводыри!»
И он ушел, меня опередив.
Я ждал: вот-вот недальний грохнет взрыв,
Но час прошел, и час другой прошел —
Над минным полем лишь гуденье пчел.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Идя к спасительному рубежу,
Я под ноги внимательно гляжу.
Молчит земля, и небеса молчат,
Из почвы травы дикие торчат,
Чуть видные неровности меж них —
Как бугорочки в книгах для слепых.
Я Осторожность взял в поводыри,
Но черные летят нетопыри,
Крадется к сердцу холод земляной,
И Солнце гаснет за моей спиной.
Чтоб поле перейти до темноты,
Мне не хватило мудрой слепоты.
Когда пытаюсь в давнее вглядеться,
Ни в чем не вижу чьей-нибудь вины.
Коротенькими радостями детства
Невзгоды в темноту оттеснены.
Забыты огорченья и леченья,
Не помню ни врагов, ни синяков,
А помню я подарки, и печенье,
И праздники белее облаков,
И мирный скрип шершавого паркета,
И самовар, журчащий, как ручей,
И елку, где дрожат комочки света
На пальцах стеариновых свечей.
Любовь минувших лет, сигнал из ниоткуда,
Песчинка, спящая на океанском дне,
Луч радуги в зеркальной западне...
Любовь ушедших дней, несбывшееся чудо,
Нечасто вспоминаешься ты мне.
Прерывистой морзянкою капели
Порой напомнишь об ином апреле,
Порою в чьей-то промелькнешь строке...
Ты где-то там, на дальнем, смутном плане,
Но ты еще мне снишься временами —
Снежинка, пролетевшая сквозь пламя
И тихо тающая на щеке.