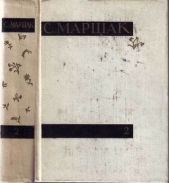Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений

Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений читать книгу онлайн
В книге впервые собрано практически полностью поэтическое и мемуарное наследие выдающегося писателя "второй волны" русской эмиграции Глеба Александровича Глинки (1903-1989). Представитель одного из уничтоженных течений советской литературы, группы "Перевал", учитель поэта Николая Глазкова, Глинка жил в довоенном СССР в ожидании ареста, пока не разразилась война. Писатель был призван в "ополчение" и осенью 1941 г. попал в немецкий плен. Судьба поэта сложилась необычно: в СССР его считали погибшим, но он был освобожден союзниками, уцелел, жил сперва в Бельгии, позже в США, где влился в поток эмигрантской литературы и писал до конца жизни.
Помимо примерно двухсот стихотворений, книга содержит впервые публикуемый полный текст книги "На перевале" и избранные статьи о литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для Запада искаженное представление о литературе внутри СССР на начало 1950-х годов, когда входил в литературоведение В. Марков, — это нормальное и почти единственное положение дел. Даже совсем недавно покинувший страну Совдепию эмигрант второй волны Глеб Глинка в мемуарной книге «На перевале» перечисляет разновидности советских писателей — и выделяет среди них, скажем, такую: «…писатели, которые решительно не хотели идти на компромисс с собственной совестью, безмолвствовали. Прежде других обет молчания дала Анна Ахматова. Бабель писал по одному крохотному рассказу в год». Стихи Ахматовой, написанные в эти «годы молчания», широкоизвестны, — напротив, неизвестна судьба двадцати четырех папок с рукописями Исаака Бабеля, изъятых у него при аресте. Бабель, безусловно, писал — но какие могли быть в те годы публикации? Самому Демьяну Бедному начальство устраивало небольшие погромы. Откуда же то, о чем пишет Глеб Глинка?.. Это не ложь, это добросовестное заблуждение, вывод из недействительного для Советского Союза правила: раз не печатаешься — значит, и не пишешь. Глинка, впрочем, отчасти судил по себе: начав хорошими публикациями в середине 20-х, к концу десятилетия — кроме детской книжки стихов «Времена года» (Л., 1929; второе издание — там же, 1930) — он уже почти ничего не мог опубликовать. Значит, не стоило и писать. Но так временно думал Глеб Глинка, а не Ахматова. Десятки и сотни русских писателей жили в СССР как могли, но в их «письменных столах», невзирая на все опасности, произрастали драгоценности. Многое, конечно, не было написано, многое было написано, но не записано, многое пропало при обысках и арестах (хотя кое-что нашлось спустя много лет в архивах той самой организации, которая эти архивы изымала). Но формула римского права — «мысль ненаказуема» — привела к тому, что многое хранилось даже не на бумаге, а только в памяти поэтов и близких им людей. Потом, когда пришла «оттепель», многое было записано. Мне об этом часто приходится вспоминать: почти тридцать лет я живу в доме, где Ахматова, останавливаясь у Н. Глен, впервые перенесла на бумагу свой «Реквием».
Теперь глянешь на литературу того времени, бессознательно складывая то, что не печаталось, с тем, что создавалось и печаталось в эмиграции, — и только диву даешься: надо же, ведь расцвет литературы был у нас в тридцатые годы!.. Как же, как же. Чего только не удумаешь НАЕДИНЕ С СОБОЙ. Но о Собе, бессмертной выдумке Глеба Глинки, разговор впереди.
А ведь жизнь Глеба Александровича была вдвойне тяжела что в двадцатые годы, что в тридцатые: он не смог бы доказать ни своего рабочего, ни крестьянского происхождения. Напротив, сама фамилия кричала за него — «недобитый дворянин».
Между тем очень мало в России можно найти семей, чья причастность к литературе имеет традицию в несколько столетий: вспоминаются прежде всего такие фамилии, как Голенищев-Кутузов, Муравьев, Глинка, — вряд ли к ним можно прибавить так уж много столь же знаменитых. В XVIII веке и в начале XIX прославили свои имена поэты П. И. Голенищев-Кутузов (1767-1829), М. Н. Муравьев (1757-1807), С. Н. Глинка (1776 —1847) и его младший брат Ф. Н. Глинка (1786— 1880), чью строку «…России верные сыны» затерли в XX веке до невозможности, — а ведь взята она из «Военной песни,написанной во время приближения неприятеля к Смоленской губернии» в июле 1812 года.
Век XIX дал России поэта А. А. Голенищева-Кутузова (1848—1913), поэта А. Н. Муравьева (1806—1874), поэтессу Авдотью Глинку (1795—1863) — кстати, урожденную Голенищеву-Кутузову, дочь П. И. Голенищева-Кутузова, именем которого начат наш список. Необходимо иной раз вспомнить и детей, и внуков, и правнуков: для нас сейчас особенно важен Александр Сергеевич Глинка (Глинка-Волжский) (1878 — 1940) — правнук уже упомянутого С. Н. Глинки. Был он критиком, историком литературы, чуть ли не «легальным марксистом», активным «знаньевцем» (впрочем, порвавшим со «Знанием» для того, чтобы сблизиться с В. Розановым, Н. Бердяевым, С. Булгаковым); в советское время занимался комментированием произведений А. П. Чехова и Глеба Успенского.
20 марта (по старому стилю) 1903 года в Симбирске (куда А. С. Глинка-Волжский был выслан в 1901 году за участие в студенческих беспорядках) появился на свет его сын, Глеб Александрович Глинка — поэт, прозаик и мемуарист, чью книгу держит сейчас в руках читатель. Судьба готовила этому человеку долгую, разломленную на две части жизнь — жизнь поэта сперва в России, потом в эмиграции. Если вспомнить имена других поэтов-эмигрантов, почти его ровесников — И. Н. Голенищева-Кутузова (1904—1969), Н. С. Муравьева (1904 — 1965), — то продолжение традиции налицо. Но если жизнь двоих последних, начавшись в России, закончилась в СССР (пусть и после весьма долгого периода, проведенного в эмиграции), то судьба Глеба Глинки оказалась иной. Об этом речь ниже, да и сам факт, что некогда советский поэт Глеб Глинка оказался одним из наиболее выдающихся поэтом второй, военной волны эмиграции, совершенно уникален в «пестром фараоне» судеб этого поколения.
Хотя и завещано апостолом Павлом не заниматься «баснями и родословиями бесконечными» (1 Тим. 1:4), без родословий не обойтись, когда речь идет о представителях столь почтенных фамилий. Исторически, между тем, фамилия старинная, но не очень: справочники говорят об этом роде как о нетитулованном, дворянском. Род Глинок был внесен в шестую часть дворянской родословной книги Смоленской губернии. О родоначальнике рода Глинок в «Русской родословной книге» кн. А. Б. Лобанова-Ростовского написано:
«Виктор-Владислав Глинка, выезжий из короны польской, за службу «на оборону городов Северских» пожалован 17 сентября 1641, от короля Владислава IV, привилегиею на разные вотчины в Смоленском воеводстве <…> С переходом Смоленска под русскую державу, при царе Алексее Михайловиче, принял православие, наречен Яковом Яковлевичем и утвержден в правах вотчинных». Короче говоря, исторически фамилия Глинка — польская, родовое гнездо фамилии — тот самый город Смоленск, по поводу оставления которого перед нашествием Наполеона писал свои знаменитые стихи Федор Глинка и в котором мог бы родиться Глеб Александрович Глинка, если бы его отца вместо Смоленска не выслали в Симбирск.
Род хоть и нетитулованный, а дворянский, да еще с польскими корнями. Для жизни в СССР 20-х годов — вариант не из лучших. Правда, что для русского, что для советского человека все Глинки уже полтораста лет как начинаются с композитора М. И. Глинки, который, кстати, тоже родился невдалеке от Смоленска. А ведь еще в 1981 году «Советский энциклопедический словарь» категорически утверждал, что М. И. Глинка — «родоначальник рус. классич. музыки», что его «оп. «Иван Сусанин» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) положили начало двум направлениям рус. оперы — нар. муз. драме и опере-сказке, опере-былине». Пожалуй, тут уже и роли не играло, что никакой оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинка не писал (он был автором музыки к опере «Жизнь за царя», всё прочее верно). Свяжешься с одним Глинкой — неровен час, пришьют тебе неуважение к памяти другого, а тот — «родоначальник» и ему правительство памятники ставит. Кстати, вот так же старались не трогать и Голенищевых, памятуя, что среди них бывали национальные герои Кутузовы, да и Муравьевых, помня, что среди них бывали декабристы Муравьевы-Апостолы. Страшней было бы связаться разве что с Толстыми: то ли «зеркало русской революции» обидишь, то ли «красного графа» рассердишь.
Во многом это, конечно, домыслы, однако же и результат кое-какой статистики. Логики в советской жизни не было и быть не могло: почему число репрессированных Волконских так невелико, а число пострадавших по милости той же власти Трубецких так ужасно — этого не надо пытаться понять. Ничто бесчеловечное не было чуждо бесчеловечной власти, что ж пытаться искать в бесчеловечном человеческую логику?
Между тем в 1917 году юному Глебу Глинке было четырнадцать лет. Кто в таком возрасте задумывается, что впереди, возможно, еще семьдесят пять лет жизни, близкое знакомство с великими людьми (от Максима Горького до Романа Якобсона), война, плен, переселение за океан? Разве что две сотни стихотворений (почти столько читатель может найти на страницах этого собрания сочинений Глеба Глинки) мерещатся в собственном будущем начавшему сочинять подростку, которого, как и всё его поколение, жизнь заставила наскоро стать старше своих лет.