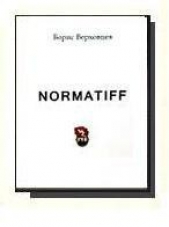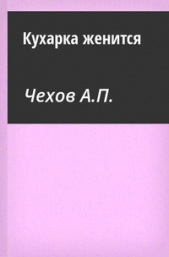В часы душевного смятения
(А по-простому — с бодуна)
Ловлю за хвост чужие тени я,
И цель не очень-то видна.
Ещё вчера казалось с вечера,
Что пью я божью благодать,
И печень — верного диспетчера,
Смеясь, просил ещё поддать.
Сверкал проспект светодиодами,
Текла сивуха по усам,
Сначала пил я с идиотами,
Потом, дурак, догнался сам.
Проснулся в клумбе — угол Кировской,
Лицо по цвету — купорос…
Пить иль не пить, вопрос шекспировский —
Давно решённый мной вопрос.
Вчера я встретил Папу Римского:
В дырявой майке, босиком,
Он шёл бухой с бутылкой «Клинского»
И с преогромным косяком.
И весь охвачен удивлением,
Спросил я: «Пап, ядрёна вошь!
Какой пример своим явлением
Ты прихожанам подаёшь??»
А он сказал: «Мыслишка здравая…
Как говорят, не в бровь, а в глаз…
Но отдохнуть имею право я
От Римской Мамы и от вас!?»
Я танцую по бортику крыши,
Не стараясь держать равновесие,
Там внизу суетятся как мыши,
Им, похоже, не очень-то весело.
Раздаются смешные приказы,
Санитары несутся поджарые,
Что-то крèпят к стене верхолазы,
И батут натянули пожарные.
В дверь чердачную с криком «Скорее!»
Кто-то лупит ударами хлёсткими,
Только я-то, ребята, хитрее —
Я забил её намертво досками.
Каблуками по самому краю,
И руками по кругу как мельница,
И кричу: «Разойдись, умираю!
Ничего уж теперь не изменится!»
Только пальцы сомкнулись на горле,
Оттащили в отчаянном натиске…
То спасатели, гады, допёрли —
Со двора штурмовали предательски.
Пристегнули, спустили, словили,
И чтоб снять напряжение нервное,
Так потом у подъезда вломили,
Что уж лучше б я прыгнул, наверное.
Я судьбу не кляну, ни о чём не жалею,
Мне чужого не надо — господь сохрани,
Коль явился на свет, значит что-то сумею
В отведённые небом недолгие дни.
Ну а если и нет — ничего, не до жиру,
Я не брошусь на рельсы в безлунную ночь…
Значит тоже я нужен был этому миру
Для мечтаний о том, чтобы что-нибудь смочь.
В моём дворе был стол для домино,
Построенный самими игроками,
И я, дошкольник с толстыми очками,
Там как-то слово вычитал одно.
Я плюнул бы и дальше побежал
Не будь оно для чтения возможным,
Но слово было жутко односложным
И в память мне вонзилось как кинжал.
И я пытал товарищей своих,
Что это слово означать могло бы?
Они друг с другом спорили до злобы,
Но этот спор с годами поутих.
Сквозь тьму веков уйдя корнями в люд,
Теперь оно для многих будто фетиш,
И надпись ту уже не реже встретишь,
Чем «Пиццерия» и «Обмен валют».
У запястья блестит остриё,
Это всё. Моя ставка проиграна,
И под корень безжалостно выдрано
Безобидное чувство моё.
Переполнено сердце тоской,
Но винить тебя в этом не вправе я…
Кто-то пьёт у соседей за здравие,
Я же выпью за свой упокой.
Пошатнувшись на хилых стопах,
Догорала любовь, как в костре зола,
Ты сказала «Не дам!», как отрезала,
И рукою прикрыла свой пах.
На свете столько разной дряни,
Что этим трудно пренебречь…
Вот, например, курнёшь по пьяни,
Накатит вал, замедлит речь.
Блестя отвисшими губами,
Течёшь, как речка подо льдом,
И догоняешься грибами,
Потом с огромнейшим трудом.
Находишь старую кастрюльку,
Кудахчешь громко: «Ко-ко-ко»,
Кладёшь туда ещё граммульку
Густое варишь молоко.
И грузно на пол оседая
У непрогретых батарей,
На миг увидишь двери рая
И Боба Марли у дверей.
И понесёшься сквозь преграды
И сотни тысяч белых стен…
Блажен, кто верует, камрады,
А я, похоже, не блажен.
У села Большие Кочки
Где кружил осенний лист
Повстречались на мосточке
Эгоист и альтруист.
Друг на друга смотрят строго,
Руки сунули в трико,
Слишком узкая дорога,
Слишком падать высоко.
«Пропусти меня, зараза» —
Эгоист сказал, шипя
«А иначе нà два глаза
Станет меньше у тебя».
Альтруист вскричал спесиво:
«Так как я люблю людей,
Люди скажут мне спасибо,
Если сдохнешь ты, злодей!»
Двинул в пропасть эгоиста,
Завязав его узлом…
Так добро светло и чисто
Одержало верх над злом.