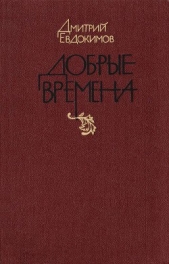Пусть говорят: «Любовь слепа!» —
Так мстит избранникам толпа.
Пусть к бездне нас ведёт тропа
Слепой любви. Но я — не внемлю!
Я вижу всё таким, как есть:
И мрак, и свет, и кровь, и честь,
И — снова в драку буду лезть
За эту женщину и землю!
Но если вправду я ослеп,
И мой безумный пыл нелеп,
И если в темноту, как в склеп,
Меня слепая Вера прячет —
Где ты, мой горький поводырь?
Веди меня на тот пустырь,
Куда Всевышний допустил
Счастливых — как и я, незрячих.
Там ходят граждане толпой —
Кто пулей был сражён слепой.
Идут и в баню, и в запой
Все вместе. Им нельзя иначе!
Я думал — среди них поэт,
Которым грезил с детских лет,
Но мне открыли там секрет:
Поэтов бьют лишь пулей зрячей!
Там пьют всё то же, что у нас.
Но разливают не на глаз,
А так — на слух! И всё — как раз!
В таких условьях дружбе — крепнуть!
А хряпнув, скажут, например:
«Вон, этот — знаешь, кто? Гомер.
Всю «Одиссею» помнит, зверь!
А если вру — пусть мне ослепнуть!»
Моя возлюбленная, пой!
Восславим жребий тот слепой,
Который выпал нам с тобой —
Незрячими узнать прозренье!
И как бы ни был рок жесток, —
Я б кровью подписал листок,
Чтоб только дьявол или Бог
Нам дал уйти в одно мгновенье!
Так пусть слепа моя судьба!
Пусть не стереть клеймо со лба —
Ей до последнего столба
Я буду верен по-собачьи:
За стаи галок в феврале,
За листья в монастырской мгле,
За горький холмик на земле
И — пусть зовут меня незрячим!
Она сказала так: «И письменно, и устно
Могу я присягнуть суду любого дня,
Что овладеет мной один лишь Заратустра:
Ведь он пророк, а я — поклонница огня».
Я думал: в голове её ещё туман драм,
Тургеневский порыв, шекспировский стишок…
Я в шутку: «Как зовут, — спросил, — Вас?»
— «Саламандра!» —
И пламени язык Вселенную обжёг!
Отречься б мне, уйти, сказав: «С огнём не шутят!»,
Но любопытства бес завлёк меня в гарем…
Я прикоснулся к ней, горя священной жутью,
Но на свою беду, как видно, не сгорел…
Я был плотью и кровью, — а значит, как все.
Но в тот раз мне
Удалось миг прожить
в белой, бешеной, огненной плазме!..
Пусть я предал воздушную нашу среду,
но все прелести рая
Отдаю — за безумную страсть век гореть, не сгорая!
Пламени языки в меня жадные очи вонзали.
И как трагик на «бис»,
я всю ночь умирал в душном зале.
Зал не рукоплескал — зал тот был залом ада.
Но царила она в нём — моя Саламандра!
Что было до того — забылось, как интриги
Провинциальных дач. И, прошлое кляня,
Я понял, что теперь из тысячи религий
Я выберу одну — Религию Огня!
Мы прятались вдвоём в мартены, печи, домны…
Штыки температур оберегали дверь.
И прокляв бег минут, меня ласкал бездомный
Мои золотой мираж, мой недомашний зверь…
Вот, значит, почему, забыв несовершенство,
Мы на огонь глядим, поняв самообман:
Там, в высшей из стихий небесное блаженство
Даруют смертным Бог — и племя саламандр!
Но вот однажды мне приснился сон крамольный —
Пёс, Дева, Водолей, Полярная звезда…
Напомнили они, что где-то плещет море,
Что родина моя — воздушная среда…
Сомненье и тоска — вот отщепенца муки:
Там без неё — не жить, здесь, рядом с ней, — сгореть…
К блестящей чешуе протягиваю руки —
Но языки огня их обожгли на треть.
На смену Дням Огня явились дни другие:
Я двигаюсь, я ем… Теряю смысл команд…
Но душу жжёт не боль, а чувство ностальгии
К единственной моей — Богине Саламандр…
Мне было десять лет, когда впервые
Я ощутил в минуты роковые,
Что не по мне пришлась душа моя.
Она во мне никак не умещалась —
Она в слова и звуки воплощалась,
Или летала в дальние края.
И начало её двойное свойство
Во мне рождать глухое беспокойство,
Меж нами сеять смуту и вражду…
Она любила всё, что мне претило,
Она не признавала коллектива
И не желала привыкать к труду.
В семнадцать я решил: «Довольно, хватит.
Настал мой час — она за всё заплатит!» —
И я зажал её в немых тисках.
Я днём бродил с ней, тих и беззаботен,
А по ночам таскал из подворотен
И распинал на глянцевых листках.
Моя любовь ей не пришлась по вкусу —
Она и в страсти праздновала труса,
Беря на душу самый тяжкий грех…
Я от друзей и женщин отрекался,
Я от бессильной злобы задыхался —
Она смеялась на глазах у всех.
А в двадцать пять моя душа пропала.
И путалась два года, с кем попало…
А я бледнел и даже клял Творца.
Потом пришла — забитая, худая
И простонала, как сова рыдая:
«Ужасный век, ужасные сердца!»
Я помню, к тридцати она смирилась.
С ней что-то непонятное творилось:
Моя душа поддакивала мне!
И вот тогда, поверив ей, как другу,
Я с ней пошёл по Дантовому кругу —
Да так и сгинул в адовом огне…
Теперь я уличил её в коварстве!
Но — поздно: я пою в подземном царстве
Среди безмолвных призрачных теней.
Я там прочёл на каменных скрижалях,
Что знанья скорбь людскую умножают
И потому-то — души нас сильней.