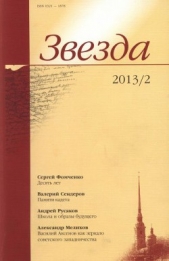Еще скрежещет старый мир,
И мать еще о сыне плачет,
И обносившийся жуир
Еще последний смокинг прячет,
А уж над сетью невских вод,
Где тишь — ни шелеста, ни стука —
Всесветным заревом встает
Всепомрачающая скука.
Кривит зевотою уста
Трибуна, мечущего громы,
В извивах зыбкого хвоста
Струится сплетнею знакомой,
Пестрит мазками за окном,
Где мир, и Врангель, и Антанта,
И стынет масляным пятном
На бледном лике спекулянта.
Сегодня то же, что вчера,
И Невский тот же, что Ямская,
И на коне, взамен Петра,
Сидит чудовище, зевая.
А если поступью ночной
Проходит путник торопливо,
В ограде Спаса на Сенной
Увидит он осьмое диво:
Там, к самой паперти оттерт
Волной космического духа,
Простонародный русский черт
Скулит, почесывая ухо.
Октябрь 1920
Вот и всё. Конец венчает дело.
А казалось, делу нет конца.
Так покойно, холодно и смело
Выраженье мертвого лица.
Смерть еще раз празднует победу
Надо всей вселенной — надо мной.
Слишком рано. Я ее объеду
На последней, мертвой, на кривой.
А пока что, в колеснице тряской
К Митрофанью скромно путь держу.
Колкий гроб окрашен желтой краской,
Кучер злобно дергает вожжу.
Шаткий конь брыкается и скачет,
И скользит, разбрасывая грязь,
А жена идет и горько плачет,
За венок фарфоровый держась.
— Вот и верь, как говорится, дружбе:
Не могли в последний раз придти!
Говорят, что заняты на службе,
Что трамваи ходят до шести.
Дорогой мой, милый мой, хороший,
Я с тобой, не бойся, я иду…
Господи, опять текут калоши,
Простужусь, и так совсем в бреду!
Господи, верни его, родного!
Ненаглядный, добрый, умный, встань!
Третий час на Думе. Значит, снова
Пропустила очередь на ткань. —
А уж даль светла и необъятна,
И слова людские далеки,
И слились разрозненные пятна,
И смешались скрипы и гудки.
Там, внизу, трясется колесница,
И, свершая скучный долг земной,
Дремлет смерть, обманутый возница,
С опустевшим гробом за спиной.
Граф Толстой Алексей не довел до конца
Свою повесть о храбром Потоке;
Двести лет он заставил проспать молодца
И притом не подумал о сроке.
«Пробужденья его, — он сказал, — подождем,
Что увидит Поток, мы про то и споем».
Но, конечно, Толстой не дождался:
Занемог как-то раз и скончался.
На себя я решился ответственность взять
За рассказ о дальнейших событьях,
Но прошу униженно: стихи прочитать
И немедля затем позабыть их,
Ибо я — не поэт, а рассказчик простой,
И, конечно, не так написал бы Толстой,
Он был мастер былинного склада, —
Мне же суть передать только надо.
Дело в том, что Поток мог и больше проспать,
Если б всё было мирно и гладко;
Но средь самого сна… как бы это сказать?..
На душе его сделалось гадко,
И нелепый в ушах начался перезвон;
Встал, глаза приоткрыл и прислушался он;
За стеной в барабан ударяли
И на воздух из пушек стреляли!
Удивился Поток: «Что за шум за такой?
Побежать посмотреть, что случилось?
Ведь недаром же мне среди ночи глухой
Безобразное что-то приснилось!
Да и спать надоело — суставы хрустят,
Поразмяться могучие плечи хотят;
Отдохнул я порядком, бесспорно.
Днем дремать — оно как-то зазорно!»
И на площадь широкую вышел Поток —
Видит, площадь народом покрыта.
Слышны крики: «Япония», «Дальний Восток»,
«Камимура», «Цзинь-Чжоу», «Мутсу-Хито»…
Слышит: люди «ура!» исступленно кричат,
Шапки, зонтики, палки на воздух летят;
Все поют, все на месте толпятся
И порой непечатно бранятся.
«Ну, — подумал Поток, — ожидай тут добра,
Видно, разум у всех помутился», —
И к тому, кто кричал всех задорней «ура!»,
Он с вопросом таким обратился:
«Объясни мне, любезный, о чем у вас крик?
Что за новый такой, непонятный язык?
Отчего о порядке не просят?
И кого так нещадно поносят?»
«Что ты, что ты, родимый? — он слышит в ответ. —
Постыдись, неужели не знаешь?
Ты, наверное, друг, ежедневных газет
И ночных телеграмм не читаешь?
Мы воюем с японцами, с желтым врагом;
Познакомятся, бестии, с русским штыком,
Не забудут нас долго макаки,
Мы пропишем им мир — в Нагасаки!»