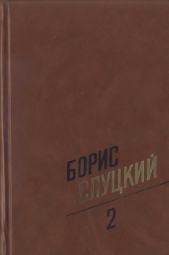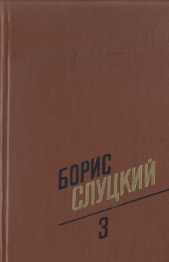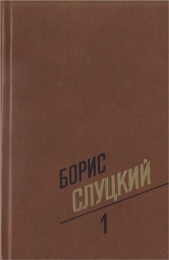Полуподвал, в котором проживал,
где каждый проезжавший самосвал
такого нам обвалу набивал,
насовывал нам в уши или в душу!
Но цепь воспоминания нарушу:
ведь я еще на выставках бывал.
Музейно было и полутемно
на выставках тогда, давным-давно,
но это, в общем, все равно:
любая полутемная картина,
как двери в полутемную квартиру,
как в полусвет чужой души окно.
Душа людская! Чудный полумрак,
в котором затаились друг и враг,
мудрец, ученый, рядовой дурак.
Все — люди! Человеки, между прочим.
Я в человековеды себя прочил
и разбирался в темных колерах.
На выставках сороковых годов
часами был простаивать готов
пред покорителями городов,
портретами, написанными
маслом в неярком освещении, неясном,
и перед деятелями всех родов.
Какая тропка в души их вела?
Какая информация была
в тех залах из бетона и стекла,
где я, почти единственный их зритель,
донашивал свой офицерский китель
и думал про себя: ну и дела!
Вот этот! Он не импрессионист,
и даже не экспрессионист,
и уж конечно не абстракционист.
Он просто лгун. Он исказитель истин.
Нечист он пред своей мохнатой кистью
и пред натурою своей нечист.
Зачем он врет? И что дает ему,
что к свету он подмешивает тьму?
Зачем, зачем? Зачем и почему?
Зачем хорошее держать в подвале,
а это вешать в самом лучшем зале —
неясно было смыслу моему.
Все это было и давно прошло,
и в залах выставочных светло,
но я порой вздыхаю тяжело
и думаю про тот большой запасник,
куда их сволокли, пустых, неясных,
писавших муторно и тяжело.
Называет себя: баба Маня.
Точно так же зовут ее все.
Но большое в ней есть пониманье.
Не откажешь в душевной красе.
Та старинная мудрость народа,
по которой казалась природа
книгой, читанной до конца,
до конца бабе Мане известна.
Лета, зимы, осени, весны
с подоплеки и с лица
разумеет баба Маня:
все житье и все бытие.
И оказывает вниманье
предколхоза
советам ее.
И в рассказе ее нескучном,
донаучном, не антинаучном,
совесть, честь и благая весть
до известной степени есть.
До известной, конечно, отметки
судит здраво она и метко,
но угадывает не всегда.
Маху дав, говорит: «Года!»
И когда за ее неугады
бабу Маню клеймят и корят,
не отводит в сторону взгляда,
что бы там ей ни говорят.
— С вами спорить разве я смею.
Возраст мне большой подошел.
И расписываться умею
не пером, только карандашом.
Впрочем, даже без карандаша
кое-что разумеет душа.
Недодача. Не до деревни
было даже в истории древней.
С той поры и до этих пор
продолжается недобор.
Деньги, книги, идеи, уют
до сих пор недодают.
На словах в ней души не чают,
а на деле переполучают.
Весь, она и осталась весь —
в этом смысл истории весь.
Грош да грош, за малостью малость
недоимка образовалась:
мужикам горожане должны,
но не в силах признать вины.
Неспособны признать перебора.
Но в последние времена
начинаются перебои.
Вехой же пролегла война…
Покосилось и обносилось,
прохудилось, сжалось село,
и вывозят его на силос,
кто печально, кто весело́,
и, сведя вековые дубравы,
изведя вековые леса,
начинают высаживать браво
ели,
тоненькие, как лоза,
ели,
слабенькие, как слеза.
Постепенно становится нас все больше,
и все меньше становится деревенских,
и стихают деревенские песни,
заглушенные шлягером или романсом.
Подпол — старинное длинное слово
заменяется кратким: холодильник,
и поет по утрам все снова и снова
городской петух — толстобрюхий будильник.
Постепенно становится нас все больше,
и деревня, заколотив все окна
и повесив пудовый замок на двери,
переселяется в город. Подале
от отчих стен с деревенским погостом
и ждет, чтобы в горсовете ей дали
квартиру со всем городским удобством.
Постепенно становится нас все больше.
Походив три года в большую школу
и набравшись ума, кто сколько может,
бывшие деревенские дети
начинают смеяться над бывшей деревней,
над тем, что когда-то их на рассвете
будил петушок — будильник древний.
Постепенно становится нас все больше.
Бывший сезонник ныне — заочник
гидротехнического института.
Бывший демобилизованный воин
в армии искусство шофера
вплоть до первого класса усвоил
и получает жилплощадь скоро.
Постепенно становится нас все больше,
и стихают деревенские песни,
именуемые ныне фольклором.
Бабушки дольше всех держались,
но и они вопрос решают
и, поимевши ко внукам жалость,
переезжают, переезжают.