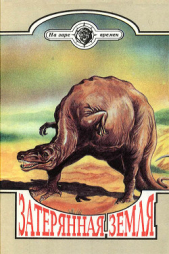Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля

Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля читать книгу онлайн
"Прощание" (1940) (перевод И. А. Горкиной и И. А. Горкина) - роман о корнях и истоках гитлеровского фашизма. Это роман большой реалистической силы. Необыкновенная тщательность изображения деталей быта и нравов, точность воплощения социальных характеров, блестящие зарисовки среды и обстановки, тонкие психологические характеристики - все это свидетельства реалистического мастерства писателя.
"Трижды содрогнувшаяся земля" (перевод Г. Я. Снимщиковой) - небольшие рассказы о виденном, пережитом и наблюденном, о продуманном и прочувствованном, о пропущенном через "фильтры" ума и сердца.
Стихотворения в переводе Е. Николаевской, В. Микушевича, А. Голембы, Л. Гинзбурга, Ю. Корнеева, В. Левика, С. Северцева, В. Инбер и др.
Вступительная статья и составление А. Дымшица.
Примечания Г. Егоровой.
Иллюстрации М. Туровского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы сосчитались, кому менять золотой: вышло мне.
Билет в «Панораму» стоил десять пфеннигов. Кассир угрюмо кивнул, когда я подал ему золотой. У кассира были прыщеватые щеки и острый нос, а у нашего учителя Голя — лицо багровое, все в веснушках.
Кассир восседал за кассой, словно на кафедре. Я пристально наблюдал за ним, не нажмет ли он какую-нибудь кнопку, чтобы вызвать полицию.
Он застегнул куртку и досадливо ругнул карандаш, упавший на пол. Он долго отсчитывал сдачу, монетками но пять и десять пфеннигов. Я стоял у кассы на цыпочках. Пришлось обеими руками сгребать деньги в карман, кошелька у меня не было. Тяжелая кучка монет оттягивала штанину.
Гартингер сказал:
— Сегодня Кнейзель распростился со своей головой.
Я порылся в кучке медяков и быстро протянул монетку Гартингеру, ведь он ел на переменах один сухой хлеб, тогда как мы обжирались булочками с ливерной колбасой или ветчиной.
Гартингер ни за что не хотел спрятать деньги, он тер и тер монетку о штаны, пока она не заблестела. Я грубо толкнул его, — разве он не видит, что привлекает к себе внимание.
Мы сидели, вытянувшись, каждый у своего глазка.
Такое же точно чувство было у нас и перед витринами магазинов, и в «Аквариуме»: отделенные одним только стеклом от неведомого, изумительного мира, мы окунались в него глазами. Лакомства, игрушки, рыбы, морские диковины и вот эти картины, которые сменяли одна другую с тихим «дзинь», были связаны между собой чем-то неуловимым и составляли как бы единое целое. Вещи и живые существа лежали или двигались у нас прямо перед глазами и вместе с тем где-то невероятно далеко.
Дзинь! — и перед нами, опершись рукой о спинку стула, стоит господин, серьезный и важный, в длинном черном сюртуке с наглухо застегнутым воротником. У господина бородатое лицо и благочестивый вид, как будто он произносит проповедь. А между тем его, без его ведома, обвели широкой траурной каймой, и подпись гласит: «Германский посланник фон Кетелер, убитый боксерами».
Дзинь! — и, мерцая, всплывает новая картинка: наш кайзер в адмиральской форме держит в Вильгельмсгафене речь перед войсками, которые отправляются в Китай.
Дзинь! — прозвенел сигнал к осаде Пекина, и союзные войска, предводительствуемые немцами, бросились со штыками наперевес на штурм городских стен.
Дзинь! — мелодично зазвенели на башнях многочисленные колокольчики, и вдруг — короткий и резкий звонок: на лобном месте палач огромным кривым мечом отрубил голову боксеру.
Гартингер возбужденно заерзал в кресле.
— Кнейзель! Кнейзель! — сказал он и отодвинулся от меня.
— Ну и что ж такого! — вызывающе и хвастливо откликнулся я и стал искать на картинке отца, этого любителя вставать спозаранку.
Я увидел в глазок себя самого: я стою на лобном месте среди офицеров, в пробковом шлеме, с сигарой во рту. Я тоже поднимаю за косу окровавленную голову и выдыхаю ей прямо в глаза сигарный дым. Но глаза остаются открытыми и смотрят на меня сквозь дым.
Мы осторожно слезли с наших кресел.
В ушах у меня еще долго звенело: «Дзинь!»
Дзинь! — звонили в церкви Богоматери, — в одном из приделов шла служба. Вслед за Гартингером я перекрестился и стал на одно колено.
Дзинь! — вызванивали на главном вокзале отправление поезда. Точно выброшенные из жизни, сидели в залах ожидания пассажиры, они вскакивали, как заводные, спешили на перрон со своими чемоданами, набитыми, конечно, бог весть какими сокровищами, и скрывались в купе, словно залезали в коробки.
Для похорон было еще слишком рано, поэтому мы удовольствовались моргом. У каждого покойника на мизинце была накручена проволока: если мертвец проснется, раздастся звонок.
Дзинь! — Ни один мертвец не встал, это башенные часы отбивали полдень.
Мы поплелись домой обедать. Я незаметно пробрался в погреб за ранцем. Топая изо всех сил, чтоб придать себе храбрости, поднялся по лестнице. Навьючив на себя ранец, я позвонил. Я только чуть нажал кнопку звонка, а он сразу же завизжал, да так пронзительно…
VIII
Из комнат не доносилось ни звука. Я положил ладонь на медную табличку «Д-р Генрих Гастль», словно мог так зажать рот отцу. Потом быстро подышал на табличку и стал начищать ее, как начищал когда-то во сне пуговицы на мундире Ксавера, чтобы табличка меня не выдала. Наконец я услышал шарканье туфель Христины. Я пожелал ей, чтобы она хорошенько ушиблась о шкаф. Она бесшумно отперла мне дверь.
Глаза у нее были грустные-грустные, как у лошадей на извозчичьих стоянках, бархатная ленточка обхватывала волосы, забранные под сетку. Мне стало не по себе от ее взгляда, и если бы я сразу не созорничал и не задрал ей юбку, то не вынес бы его.
— Тш! Тш! — шикнула она. — Их милость… — Христина показывала на столовую, где, видимо, находился отец.
Я отпустил ее юбку, швырнул в угол ранец и пошел на кухню мыть руки. Отвернул кран до предела, пусть хоть вода шумит, но Христина с мольбой взглянула на меня, голова у нее тряслась. Я подкрался к двери столовой.
Дверная ручка как будто задвигалась. Может быть, отец взялся за нее с той стороны? Но шепот доносился издалека. Значит, отец сидел за письменным столом… (Отдельного кабинета у него не было.) По дверной ручке он легко мог догадаться, что я подслушиваю. Ручка была сквозная. Правда, отец мог появиться и за моей спиной, а вдруг он с утра так и остался в зеркале, этот любитель вставать спозаранку?
— Из-за каких-то десяти марок… Да и теми он не попользовался. Ведь приятель сразу же его выдал… Нет, я против.
Что-то тихо позвякивало. Мать, которая была «против», накрывала на стол к обеду.
Отец откашлялся.
— Когда жандармы задержали его, он стал стрелять. Одного жандарма убил. К первому убийству прибавилось второе. Убийство есть убийство.
— Его самого ранили в живот. И вы же его вылечили…
— Правильно… А сегодня ему голову с плеч долой…
— Я против…
— Ты сама не понимаешь, что говоришь…
Дзинь! Голова моя упала на грудь как подрубленная.
Это был звонок к обеду…
Я шумно хлебал наваристый суп из цветной капусты, но сегодня никто не делал мне замечаний за громкое хлюпанье. Тарелка моя все не пустела. Сколько я ни черпал ложкой, этого проклятого супа становилось все больше, он снова и снова поднимался до краев. И родители тоже никак не могли справиться с супом, словно мы должны были съесть целое море супа. Мы отставили его, так и не доев. Христина внесла жаркое из свинины.
— Какой вкусный обед сегодня, — сделал я попытку нарушить молчание; родители многозначительно переглянулись, и в комнате еще долго отдавалось эхом: «Сегодня, сегодня, сегодня…»
Я сидел напротив отца. Отец заправил манжеты под рукава. На нем домашняя куртка. Удивительно, до чего чисты эти манжеты. Вид у отца какой-то праздничный. Большой салфеткой, обвязанной вокруг шеи, он вытирает с усов жир.
Отец ел сегодня торжественно. Мать, которая была «против», любовным взглядом провожала каждый кусок, исчезавший у него во рту. Сама она почти ничего не ела, на тарелке у нее темнел кружочек гарнира. Она сидела за столом для того, чтобы кормить отца. По воскресеньям, когда подавали суп с лапшой, отец вычерпывал к себе в тарелку весь жир; глазки жира густо плавали поверх целой горы лапши.
Я внимательно рассматривал руки отца. Они были покрыты редкими волосиками, в безымянный палец глубоко врезалось обручальное кольцо. Снять кольцо отец не мог бы при всем желании — палец сделался очень толстым. Я содрогнулся при мысли, что, может, и мои руки станут когда-нибудь такими же.
Дзинь! — звякнули монеты у меня в кармане.
Вилка отца резко стукнула о тарелку. Рот мой судорожно раскрылся, и я, давясь картофелем, начал рассказывать о школе. Меня вызвали показать на карте Тирольские горы, Гартингера поставили в угол. Я знал, что отцу доставляет удовольствие, когда у Гартингера неприятности в школе.
Медяки у меня в кармане угомонились и больше не звякали…