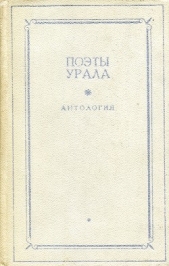Нарисованные в небе облака.
Нарисованные на холмах дубы.
У ручья два нарисованных быка
Перед боем грозно наклонили лбы.
В поле пастухами разведен огонь.
Чуть дрожат в тумане крыши дальних сел.
По дороге выступает тощий конь,
Рядом с ним бежит откормленный осел.
На картинах у испанских мастеров
Я люблю веселых розовых крестьян,
Одинаковых: пасет ли он коров
Иль сидит в таверне важен, сыт и пьян.
Вот такой же самый лубочный мужик
Завтракает сыром, сидя на осле.
А в седле старинном, сумрачен и дик,
Едет он — последний рыцарь на земле.
На пейзаже этом он смешная быль.
Прикрывает локоть бутафорский щит.
На узорных латах ржавчина и пыль.
Из-под шлема грустно черный ус торчит.
— Что же, ваша милость, не проходит дня
Без жестоких драк, а толку не видать.
Кто же завоюет остров для меня,
Мне, клянусь Мадонной, надоело ждать! —
— Мир велик и страшен, добрый мой слуга,
По большим дорогам разъезжает зло:
Заливает кровью пашни и луга.
Набивает звонким золотом седло.
Знай же, если наши встретятся пути,
Может быть, я, Санчо, жизнь свою отдам
Для того, чтоб этот бедный мир спасти,
Для прекраснейших из всех прекрасных дам. —
Зазвенели стремена из серебра.
Странно дрогнула седеющая бровь…
О, какая безнадежная игра —
Старая игра в безумье и любовь.
А в селе Тобосо, чистя скотный двор.
Толстая крестьянка говорит другой:
— Ах, кума. Ведь сумасшедший наш сеньор
До сих пор еще волочится за мной!..
В небе пропылило несколько веков.
Люди так же умирают, любят, лгут,
Но следы несуществующих подков
Росинанта в темных душах берегут.
Потому, что наша жизнь — игра теней,
Что осмеяны герои и сейчас,
И что много грубоватых Дульциней
Так же вдохновляет на безумства нас.
Вы, кто сердцем непорочны и чисты,
Вы, кого мечты о подвигах томят, —
В руки копья и картонные щиты!
Слышите, как мельницы шумят?..
«Воля России». 1927. № 5–6
В тот страшный год протяжно выли волки
По всей глухой, встревоженной стране.
Он шел вперед, в походной треуголке,
Верхом на сером в яблоках коне.
И по кривым ухабистым дорогам,
В сырой прохладе парков и лесов
Бил барабан нерусскую тревогу,
И гул стоял колес и голосов.
И пели небу трубы золотые,
Что император скоро победит,
Что над полями сумрачной России
Уже восходит солнце пирамид.
И о короне северной мечтали
Романтики, но было суждено,
Что твердый блеск трехгранной русской стали
Покажет им село Бородино.
Клубился дым московского пожара,
Когда, обняв накрашенных актрис,
Звенели в вальсе шпорами гусары.
Его величества блюдя каприз.
Мороз ударил. Кресла и картины
Горят в кострах, — и, вздеты на штыки,
Кипят котлы с похлебкой из конины…
А в селах точат вилы мужики!
Простуженный, закутанный в шинели.
Он поскакал обратно — ждать весны.
И жалостно в пути стонали ели,
И грозно лед трещал Березины…
Порой от деда к внуку переходит,
По деревням, полуистлевший пыж,
С эпическим преданьем о походе,
О том, как русские вошли в Париж.
Ах, все стирает мокрой губкой время!
Пришла иная страшная пора,
Но не поставить быстро ногу в стремя.
Не закричать до хрипоты ура.
Глаза потупив, по тропе изгнанья
Бредем мы нищими. Тоскуем и молчим.
И лишь в торжественных воспоминаньях
Вдыхаем прошлого душистый дым.
Но никогда не откажусь от права
Возобновлять в ушах победы звон,
И воскрешать падение и славу
В великом имени: Наполеон.
«Воля России». 1927. № 5–6
Распорядитель ласковый и мудрый
Прервал программу скучную. И вот —
В тумане электричества и пудры
Танго великолепное плывет.
Пока для танцев раздвигают стулья,
Красавицы подкрашивают рты.
Как пчелы, потревоженные в улье,
Гудит толпа, в которой я и ты.
Иду в буфет. Вдыхаю воздух пряный,
И слушаю, как под стеклянный звон
Там декламирует с надрывом пьяный,
Что он к трактирной стойке пригвожден.
Кричат вокруг пылающие лица.
И вдруг решаю быстро, как в бреду:
Скажу ей все. Довольно сердцу биться
И трепетать на холостом ходу!
А в зале, вместо томного напева,
Уже веселый грохот, стук и стон —
Танцуют наши северные девы
Привезенный с бананами чарльстон.
И вижу: свет костра на влажных травах,
И хижины, и черные тела —
В бесстыдной пляске — девушек лукавых,
Опасных, как зулусская стрела.
На копья опираясь, скалят зубы
Воинственные парни, а в лесу
Сближаются растянутые губы
Влюбленных, с амулетами в носу…
Но в этот мир таинственный и дикий,
В мир, где царят Майн-Рид и Гумилев,
Где правят людоедами владыки
На тронах из гниющих черепов,
Ворвался с шумом, по-иному знойный,
Реальный мир, постылый и родной,
Такой неприхотливый и нестройный,
Такой обыкновенный и земной!
И я увидел: шелковые платья
И наготу девических колен,
И грубовато-близкие объятья —
Весь этот заурядный плоти плен.
И ты прошла, как все ему подвластна.
Был твой партнер ничтожен и высок.
Смотрела ты бессмысленно и страстно,
Как я давно уже смотреть не мог.
И дергались фигуры из картона:
Проборы и телесные чулки,
Под флейту негритянскую чарльстона,
Под дудочку веселья и тоски…
Вот стихла музыка. И стало странно,
Неловко двигаться, шутить, шуметь.
Прошла минута, две. И вдруг нежданно
Забытым вальсом зазвенела медь.
И к берегам покинутым навеки
Поплыли все, певучи и легки;
Кружились даже, слабо щуря веки,
На согнутых коленях старики.
Я зал прошел скользящими шагами.
Склонился сзади к твоему плечу, —
Надеюсь, первый вальс сегодня с вами? —
И вот с тобою в прошлое лечу.
Жеманных прадедов я вижу тени
(Воображение — моя тюрьма).
Сквозь платье чувствуя твои колени;
Молчу и медленно схожу с ума.
Любовь цветов благоухает чудно,
Любовь у птиц — любовь у птиц поет,
А нам любить мучительно и трудно:
Загустевает наша кровь, как мед.
И сердцу биться этой кровью больно.
Тогда, себя пытаясь обокрасть,
Подмениваем мы любовь невольно,
И тело телу скупо дарит страсть.
Моя душа не знает разделений.
И, слыша шум ее певучих крыл
(Сквозь платье чувствую твои колени),
Я о любви с тобой заговорил.
И мертвые слова затрепетали,
И в каждом слове вспыхнула звезда
Над тихим морем сдержанной печали, —
О, я совсем сошел с ума тогда!
Твое лицо немного побледнело,
И задрожала смуглая рука.
Но ты взглянула холодно и смело.
Душа, душа, ты на земле пока!
Пускай тебе и горестно и тесно,
Но, если вскоре все здесь будет прах,
Земную девушку не нужно звать небесной,
Не нужно говорить с ней о мирах.
Слепое тело лучше знает землю:
Равны и пища, и любовь, и сон.
О, слишком поздно трезво я приемлю,
Земля, твой лаконический закон…
Тогда же вдруг я понял, цепенея.
Что расплескал у этих детских ног
Все то, чем для Тобозской Дульцинеи
Сам Дон Кихот пожертвовать не мог.
Все понял, остро напрягая силы,
Вот так, как будто сяду за сонет, —
И мне уже совсем не нужно было
Коротенькое, глупенькое «нет».
«Воля России». 1927. № 8–9