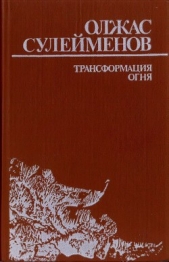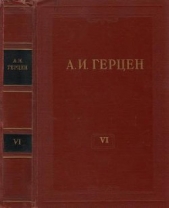От крови пьян поэт!
А после боя
слова развязны
разбрелись из строя.
И строки славы, как пустые роги
(пир утихает),
валятся под ноги.
Провидец, выходи на поле битвы,
решился спор величья и обиды,
пустынно поле жизни,
нет убитых,
шлемы, словно панцири
улиток,
да кое-где раздвинется трава
и мертвая — из грязи голова,
глаза растоптаны,
и шеи нет.
Оракул, стой.
Иди, ищи, поэт.
Ступай туда, откуда конский стон,
шагай, на посох слуха опираясь,
увидишь за холмами
мертвых стан —
врата земли для лучших отпирают
живые братья их.
II
Огромен ров.
Дно выстлано двурогими коврами,
воздвигнут в центре пропасти шатер
тремя равновеликими углами.
Ишпака вносят,
вдетого в броню,
укладывают на широком торе.
Кувшины справа — золотом набиты,
в бою добытом.
Кувшины слева —
темное вино
и жидкий жир.
А вяленое мясо
уложено в тугих мешках копченых,
хлебы льняными тканями покрыты.
Эй, кравчий, наливай вина
поэту!
Я стоя выпью
за кончину эту.
…Вокруг шатра (так тесно в этой яме)
сложили воинов,
ушедших с ним,—
кыр-гузов, ики-пшаков и косогов.
Скульптуры неживые
в рваных латах,
мечи сияли,
колчаны лоснились.
Они готовы к тем сраженьям славным,
которые им на земле приснились.
В их лицах искаженных
ты прочти
немые отраженья
слов последних,
меж тем и этим миром —
ты посредник,
тебе открыты тайны все
почти.
О чем подумал рыжий ики-пшак,
мечом лидийским
в горло пораженный?
Оскалился.
Чему был воин рад,
вступая из садов
в пустыню Гоби?—
«Проносятся мимо
ревущие острия копий!»
А этот серый,
скорченный от боли,
кишки в руке,
в другой зажат клинок,
что выражал он
в миг последний
воем?
Себя, наверно, спрашивал о том;
«Можно ли драться
с распоротым животом?»
«Можно!» — слышал он рев
обезумевшей воли.
III
Скуны держались отдельно —
поближе к шатру.
Уч-ок, Наводящий Ужас,
лежал безголовым.
Напрасно искали главу —
в траве затерялась,
в легендах осталась.
Воспет величавый подвиг:
ему оторвали голову утром
в начале битвы,
а он продолжал рубиться
и только в полдень,
когда закричал в желудке баран
пронзенный
и клич не раздался,
в сердце произнесенный,
когда три стрелы Яздана
добили печень,
когда отломили руку
и стало нечем
врагам наносить
безжалостные удары,
он с мерина пал,
он понял —
подкралась старость.
Эй, кравчий, собака,
подай мне другого вина,
за воина славного встану
и выпью до дна!
IV
Хан был одинок без нее,
и она одинока.
Ну что же,
она пожелала,
ее не держали.
Она
по ступеням
спустилась
на дно
могилы.
Пошла по телам.
Живые ее уважали.
Они наблюдали с увалов
и, кажется, знали:
Шамхат
покрывала
пространство
между кругами.
Все ближе шатер.
У входа, спиной к косяку,
сидит обескровленный,
череп проломлен,
Дулат,
тяжелая палица, взятая с болью,
в руке,
он будет и там рядом с вами
(входите, бике!),
сидит, ухмыляется вытекшим глазом
Дулат,
у ней настроенье испортилось,
можно понять.
Прекрасно тому,
кто, не мучая мыслями разум,
из круга в другой переходит
не медленно, разом.
(Не медли, о кравчий!)
Она у дверей.
Опустила
на белый порог
войлок полога.
(Опустела
проклятая чаша.
Эй, кравчий, не можешь почаще!..)
Светильники, полные маслом,
она засветила
и веером мух прогнала
с лица властелина.
Нелегкий тундук приоткрыв,
помещенье проветрила,
хлебы и кувшины с водою и маслом
проверила,
И стала готовиться к ложу,
читатель мужайся!
V
Эх, Шамхат,
это имя ело ему глаза,
набивалось в ноздри,
сыпалось красным песком в пищу,
крошило зубы,
это имя, похожее на фырканье кошки,
собачий чих,
его противно брать на язык
и давить зубами,
если бы мог Ишпака,
хотя бы ради забавы,
он, как собака, бы выгрыз его из памяти
вместе с кусками
окаменевшего мозга!..
Но поздно.
VI
…Сняла диадему
добротной шумерской работы
и бусы снимает,
алку не спеша отстегнула.
За стенками — крики.
Браслет золотой отогнула
тяжелый,
старинный —
с изнанки он черен от пота.
…Спускают в могилу коней
и руки на них поднимают,
их колют под ухо,
и лошади не понимают.
Их режут и режут,
кричат, вырываются кони.
О кравчий,
я их уважаю за эти законы!
VII
Все!
Все повторится!
Не быть лишь сюжету такому!
Лиловых шелков!
Горячего синего цвета
ее одеяний.
Не будет такого контраста
между смирением стана
и бешенством контура бедер,—
изящный кувшин,
наполненный, холодом страсти.
Вы будете пить
из темных рассохшихся ведер,
из бочек дубовых,
несоразмерных жажде,
толпу утоляющих мутной
ржавою жижей,
из луж повседневных.
Кувшины бывают — однажды.
…Она обнажилась,
стыдливо легла под светильник,
свет жадно хватался,
ласкал,
но она не пустила
ни блика
в межбедрие.
Лежа в холодной постели,
тень левой груди
мгновенно
клинком осветила
и — на бок!
VIII
…Из щели тундука
на тело дуло,
она к животу
колени тянула.
Ударили горсти земли по шатру,
и пламя светильников
плачем пригнуло.
Ладонью ползя по раскосому
лику,
безглазому, явному,
как улика,
она шевелила губами:
— Косуля…
Косуля любимая…—
не обманула.
Шатало,
лупили землей
по шатру,
по страже,
по трупам кричащим,
все чаще,
все глубже уходят под землю
герои.
Читатель, вылазь из провала —
Поэту подобное
не по нутру.
Пока извивается болью спина,
пока не погасли светильники —
на,
читатель,
гляди,
не забудь, как она
затихла вдоль мужа
с улыбкою робкой.
На рукояти,
торчащей из ребер,
запомни, о кравчий,
светилось —
«Вина».