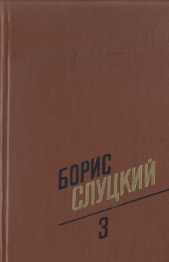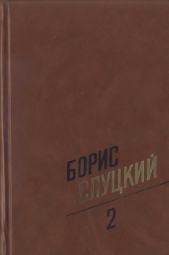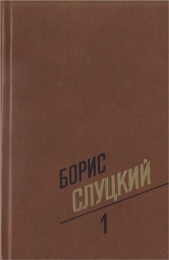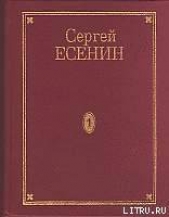От ужаса, а не от страха,
от срама, а не от стыда
насквозь взмокала вдруг рубаха,
шло пятнами лицо тогда.
А страх и стыд привычны оба.
Они вошли и в кровь и в плоть.
Их
даже
дня
умеет
злоба
преодолеть и побороть.
И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.
Господи, больше не нужно.
Господи, хватит с меня.
Хлопотно и недужно
день изо дня.
Если Ты предупреждаешь —
я уже предупрежден.
Если Ты угрожаешь —
я испугался уже.
Господи, неужели
я лишь для страха рожден?
Холодно мне и суетно
на роковом рубеже.
Все-таки многоначалие
больше надежды дает,
проще спасти свою душу
и уберечь свою плоть,
чем если молотом тяжким
судьбы немолчно кует
не подлежащий обжалованию
единосущный Господь.
Но никуда не денешься.
Падаешь, словно денежка,
в кружке церковной звеня.
Боже, помилуй меня!
Мне показалось, что кто-то стучится.
В дверь или в душу — понять я не мог.
Тотчас я встал и пошел за порог.
Пусто, и только вселенная мчится.
Мчится стремглав и сбивается с ног.
Звезды, сшибаясь на страшных рысях,
вдруг издают глуховатые звуки?
Или планеты скрипят на осях?
Или, по данным последним науки,
что-нибудь, как-нибудь, так или сяк?
Все-таки это, наверно, не в небе.
Все-таки это, наверно, в душе.
Кто-то стоит на моем рубеже
и осторожно, в печали и гневе,
тихо и грозно стучится: «Уже!»
Это как Жанны д’Арк голоса:
определяют, напоминают,
будто бы тихо и грозно роняют
капли — не наземь — в тебя небеса.
Или листву отрясают леса.
Я на холодном крыльце постою,
противоставлю молчанье вселенной
шороху, шуму, обвалу велений,
что завалили душу мою.
Вспомню, запомню и не утаю,
как он пришел, этот шелест и шепот,
перерастающий в гул или гром,
за целый век береженным добром,
как упразднил весь мой жизненный опыт,
что за вопросы поставил ребром.
То ли решать, то ли тянуть.
Но можно столько протянуть,
что после не решишь, решая.
Проблема сложная, большая:
то ли решать, то ли тянуть.
Конечно, хорошо
одним
ударом
сразу,
без оттяжки!
Решить не долго и не тяжко,
но что же после делать с ним,
решенным с маху или сразу?
Ведь после — не перечеркнуть!
И вот жуешь такую фразу:
то ли решать, то ли тянуть.
То ли тянуть, то ли решать,
то ли проблемы разрешать,
то ли сперва часок соснуть?
На полуфразе, нет, на полуслове,
без предисловий и без послесловий,
на полузвуке оборвать рассказ,
прервать его, притом на полуноте,
и не затягивать до полуночи,
нет, кончить все к полуночи как раз.
К полуночи закончить все, к курантам,
рывком решительным и аккуратным,
а все, что плел и расплести не мог,
все тропки, что давно с дороги сбились,
клубки, что перепутались, склубились,
загнать в полустраничный эпилог.
А в эпилоге воздух грозовой.
Дорога в эпилоге — до порога.
Короткий и печальный разговор
у эпилога.
Концерт для скрипки и гобоя —
а впрочем, заиграй любое.
Без музыки — словно без рук.
Сыграй мне что-нибудь, мой друг.
А если на фортепианах
не обучался никогда —
в биндюжниках и грубиянах,
в невеждах у меня нужда.
Скажи хоть глупость, развлеки
побасенкою, хоть чугунной.
С моей руки твоей руки
снимать и убирать не думай.
А если скрипка и гобой
захвачены сюда тобой,
пожалуйста, сыграй любое!
Концерт для скрипки и гобоя.
Ну что же, я в положенные сроки
расчелся с жизнью за ее уроки.
Она мне их давала, не спросясь,
но я, не кочевряжась, расплатился
и, сколько мордой ни совали в грязь,
отмылся и в бега пустился.
Последний шанс значительней иных.
Последний день меняет в жизни много.
Как жалко то, что в истину проник,
когда над бездною уже заносишь ногу.