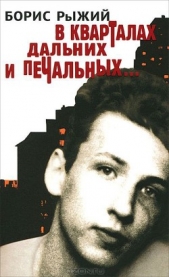* * *
Ежевечерне я в своей молитве {211}
вверяю Богу душу и не знаю,
проснусь с утра или ее на лифте
опустят в ад или поднимут к раю.
Последнее совсем невероятно:
я весь из фраз и верю больше фразам,
чем бытию, мои грехи и пятна
видны и невооруженным глазом.
Я все приму, на солнышке оттаяв,
нет ни одной обиды незабытой;
но Судный час, о чем смолчал Бердяев,
встречать с виной страшнее, чем с обидой.
Как больно стать навеки виноватым,
неискупимо и невозмещенно,
перед сестрою или перед братом, —
к ним не дойдет и стон из бездны черной.
И все ж клянусь, что вся отвага Данта
в часы тоски, прильнувшей к изголовью,
не так надежна и не благодатна,
как свет вины, усиленный любовью.
Все вглубь и ввысь! А не дойду до цели —
на то и жизнь, на то и воля Божья.
Мне это все открылось в Коктебеле
под шорох волн у черного подножья.
1984
Никогда я Богу не молился
так легко, так полно, как теперь…
Добрый день, Аленушка-Алиса,
прилетай за чудом в Коктебель.
Видишь? — я, от радости заплакав,
запрокинул голову — и вот
Киммерия, алая от маков,
в бесконечность синюю плывет.
Вся плывет в непобедимом свете,
в негасимом полдне, — и на ней,
как не знают ангелы и дети,
я не помню горестей и дней.
Дал Господь согнать с души отечность,
в час любви подняться над судьбой
и не спутать ласковую Вечность
со свирепой вольностью степной…
Как мелась волошинская грива!
Как он мной по-новому любим
меж холмов заветного залива,
что недаром назван Голубым.
Все мы здесь — кто мучились, кто пели
за глоток воды и хлеба шмат.
Боже мой, как тихо в Коктебеле, —
только волны нежные шумят.
Всем дитя и никому не прадед,
с малой травкой весело слиян,
здесь по-детски властвует и правит
царь блаженных Максимилиан.
Образ Божий, творческий и добрый,
в серой блузе, с рыжей бородой,
каждый день он с посохом и торбой
карадагской шествует грядой…
Ах, как дышит море в час вечерний,
и душа лишь вечным дорожит, —
государству, времени и черни
ничего в ней не принадлежит.
И не славен я, и не усерден,
не упорствую, и не мечусь,
и что я воистину бессмертен,
знаю всеми органами чувств.
Это точно, это несомненно,
это просто выношено в срок,
как выносит водоросли пена
на шипучий в терниях песок.
До святого головокруженья
нас порой доводят эти сны, —
Боже мой Любви и Воскрешенья,
Боже Света, Боже Тишины!
Как Тебя люблю я в Коктебеле,
как легко дышать моей любви, —
Боже мой, таимый с колыбели,
на земле покинутый людьми!
Но земля кончается у моря,
и на ней, ликуя и любя,
глуби вод и выси неба вторя,
бесконечно верую в Тебя.
1984
Как будто бы во сне повинном,
что не со всяким может статься,
я чувствую себя дельфином
на карадагской биостанции.
Зачем я дался людям глупым
и почему, хоть в скалах выбей,
мы то всего сильнее любим,
что нам приносит боль и гибель?
В бассейне замкнутом и душном,
где развернуться сердцу негде,
что в теле мне моем недужном
и в обреченном интеллекте?
Я разлучен с родимой бездной,
мне все враждебно и непрочно,
и надо мной не свод небесный,
а потолок цементно-блочный.
С тремя страдальцами другими,
утратив братьев и подругу,
плыву и прыгаю за ними
по кругу, Господи, по кругу!
Нас держат с котиками вместе,
и так расчетливо и дико
на мне сбывается возмездье
за поведенье Моби Дика.
Во славу трубящей науки,
что дуракам сулит бессмертье,
сношу бессмысленные муки
и не прошу о милосердье.
Спасибо, брат старшой, спасибо,
дитя корысти и коррупций, —
твоя мороженая рыба
не лезет в горло вольнолюбцу.
И вот — в пяти шагах от моря,
от неба синего, от рая
я с неразумия и с горя
никак не сдохну, умирая.
1984
В радостном небе разлуки зарю
дымкой печали увлажню:
гриновским взором прощально смотрю
на генуэзскую башню.
О, как пахнуло веселою тьмой
из мушкетерского шкафа, —
рыцарь чумазый под белой чалмой —
факельноокая Кафа!
Желтая кожа нагретых камней,
жаркий и пыльный кустарник —
что-то же есть маскарадное в ней,
в улицах этих и зданьях.
Тешит дыханье, холмами зажат,
город забавный, как Пэппи,
а за холмами как птицы лежат
пестроцветущие степи.
Алым в зеленое вкрапался мак,
черные зернышки сея.
Море синеет и пенится, как
во времена Одиссея.
Чем сгоряча растранжиривать прыть
по винопийным киоскам,
лучше о Вечности поговорить
со стариком Айвазовским.
Чьи не ходили сюда корабли,
но, удалы и проворны,
сколько богатств под собой погребли
сурожскоморские волны!
Ласковой сказке поверив скорей,
чем историческим сплетням,
тем и дышу я, платан без корней,
в городе тысячелетнем.
И не нарадуюсь детским мечтам,
что, по-смешному заметен,
Осип Эмильевич Мандельштам
рыскал по улочкам этим.
1984