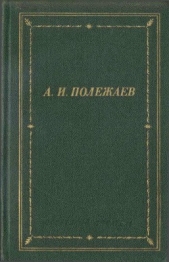Я дома… Боже мой, насилу вижу свет!
Мой милый, посмотри, в уме я или нет?
Не видишь ли во мне внезапной перемены?
Похож ли на себя? С какой ужасной сцены
Сейчас я ускользнул!.. Где был я, о творец!
Я мукой заслужил страдальческий венец!
Нет, Сидор Карпович, покорнейшим слугою
Прошу меня считать, но… в дом к вам ни ногою —
Хотя б вы умерли — не буду никогда.
«Что сделалось с тобой?» — «Беда, беда, беда!»
— «Положим, что беда, но объяснись, как должно».
— «Нет сил пересказать, наказан я безбожно.
Послушай и суди: сегодня поутру
Сам черт меня занес к mademoiselle [75] Тру-тру,
Известной жрице мод, торгующей духами,
Ликером, шляпками и многими вещами,
О коих я судить нимало не привык
По правилу: держи на привязи язык;
Взял дюжину платков, материй для жилетов
И, осмотрев мильон шнуровок и корсетов,
Заказанных у ней почетным щегольством,
Хотел благодарить за ласки кошельком,—
Как вдруг — преддверие блистательного храма
Звенит и хлопает… Вуаль отброся, дама
С девицей в локонах вступает в магазейн,
И милости прошу: баронша Крепсенштейн!
Взошла — и началась ужасная тревога:
„Bon jour, ma chère! [76] Ба, ба, скажите, ради бога,
Ужели это вы, почтенный наш Сократ?“
Они, как сговорясь, вдруг обо мне пищат:
„Ах, боже мой! Вот смех, вот чудеса, вот странно!
Серьезный господин, который беспрестанно
Поносит женский пол, и моды, и весь свет,
Заехал к mademoiselle купить себе лорнет,
Колечко, медальон иль что-нибудь такое.
И что же? На софе посиживают двое,
Как будто о делах приличный разговор
Ведут наедине!“ Такой нелепый вздор,
Бесстыдство матери и дочери в огласку
Невольно бросило меня сначала в краску,
И я уже хотел почтенной Крепсенштейн
Сказать и пояснить, что если магазейн
Француженки Тру-тру слывет Пале-Роялем,
То ей, окутанной огромнейшим вуалем,
Едва ль не совестно с девицей приезжать
В такой свободный дом товары покупать.
Но быстро все мои тяжелые заботы
Пресекли новые парижские капоты.
„Ах, прелесть! Что за цвет! Прекраснейший фасон!
А эти складочки, а этот капишон!..
Ах, маменька! Скорей, немедленно обновы“.
— „Изволь, мой друг, изволь!“ — ответ, всегда готовый,
Был дочке радостной. Баронша — в кошелек,
А кошелек, как пух, и тонок и легок.
„Смотрите, да он пуст! — баронша закричала.—
Ах, мой создатель! Как забывчива <я> стала,
Без денег выезжать! А всё заторопясь…
Mais à propos [77],— ко мне с улыбкой обратясь,
Сказала дружески, — я видела при входе,
Что есть у вас большой бумажный курс в расходе.
Прошу, отдайте ей за эти пустяки,
А завтра мы сочтем и прежние долги“.
Что делать мне? Полез к бумажным кредиторам
И в знак почтения к уродливым узорам
Парижских епанчей три сотни заплатил.
Зато мне и хвала! Сказали: „Как он мил!“
„Конечно, очень мил“, — подумал я с досадой,
И проклял магазейн со всей его помадой,
Чепцами, блондами, а более всего
С гостями вечными, бароншами его,
Потом с покупкою и книжкою карманной,
Довольно гибкою от встречи нежеланной,
Я ехал отдохнуть в досужный час домой.
Но вот Кремлевский сад пестреет предо мной.
Нельзя не погулять. „Фома, держи левее,
К воротам. Стой!“ — и слез. Иду большой аллеей,
Любуясь зеленью и пышностью цветов,
Сажусь под арками. Тут запах пирожков,
Паштетов, соусов — приманка сибарита —
Невольно моего коснулся аппетита…
„Толпы зевак еще и гастрономов нет,—
Подумал я, — велю подать себе котлет
И выпью рюмки две хорошего донского“,—
Подумал — и взошел; велел — и всё готово.
Но только сесть хотел — дверь настежь, и Ослов
С отборной партией бульварных молодцов,
Как водится всегда, охотников до рома,
Котлет, чужой жены и до чужого дома,
Ввалил прямехонько в ту комнату, где я
Готовил скромное занятье для себя.
„Любезнейший мой друг, старинный мой приятель! —
Вскричал, обняв меня, сей новый истязатель.—
Здоров ли, жив ли ты? Скажи, какой судьбой
Привел меня господь увидеться с тобой?
Позволь, тебя всего сто раз я поцелую!
Вот друг мой, господа! Мой друг, рекомендую;
Прошу его любить: он всё равно что я,
А вам представлю их, всё добрые друзья:
Вот князь Свистов, а вот поэт Ахтикропалов,
Сверчков, Бостонников, Облизов и Пропалов.
Ей-ей, сердечно рад! Знакомьтесь поскорей;
Мы время проведем как можно веселей!“
И с этим словом все нахалы, пустомели,
Вертясь и кланяясь, вокруг меня обсели.
Котлеты между тем свернулися в желе
И лакомили мух покойно на столе.
Жестокая беда! Но вот еще мученье!
Является паштет, огромное строенье,
Торжественный венец искусства поваров,
Со свитой водок, вин и влаги всех родов.
Почтеннейший Ослов, на откуп взяв желудки,
Как истинный делец, успел уже за сутки
Вперед распорядить явленье пирога —
И снова я в руках могущего врага!
Облизов, приступя к решительному бою,
Сразил чудовище искусною рукою,
Огромный зев его на части резделил,
И всякий с лезвием ко трупу приступил.
Припомни, как терзал Демьян соседа Фоку,
Как потчевал его без отдыху и сроку
И градом пот с него, несчастного, бежал;
Так точно и меня знакомец угощал
Без срока, отдыха и даже без оглядки!
„Да кушай, милый мой, вот ножка куропатки,
Цыплята, голуби и фарш — и всё тут есть.
Отведай же, мой друг, прошу тебя я в честь“.
Хочу сказать, что сыт, — не даст ответить слова;
Лишь только я начну — и рюмка мне готова.
„Пей, пей, любезнейший! Поменьше говори.
Что за бордо, сотерн, шампанское! Смотри!
Да, кстати, добрый наш поэт Ахтикропалов,
Ты так запрятался меж рюмок и бокалов,
Что мудрено тебя найти и с фонарем.
Отсвистнись-ка, мой друг, каким-нибудь стишком!“
— „Готов!“ — сказал поэт с довольною улыбкой;
Перст ко лбу — и в ушах раздался голос хрипкой:
„Я с удовольствием сижу
В кругу друзей почтенных
И с чистой радостью гляжу
На строй бутылок пенных,
Которых слезы, как хрусталь
Лазурный, белый и румяный,
Кропят граненые стаканы —
И, не откладывая в даль,
Запью последнюю печаль“.
Скончал. Бутылка хлоп — в фиале зашипело,
И „браво“, как ядро из пушки, загремело…
„Списать стихи, списать! Вот истинный поэт!
Как скоро и легко! Отличнейший куплет!“
И вдруг карандаши и книжки записные
Посыпались на стол в хвалу и честь витии.
А я… как думаешь? Скорее шляпу, трость
Да в общей кутерьме, как запоздалый гость,
Забывши заплатить за грешные котлеты,
Которые опять быть могут подогреты,
Бежать, да как бежать! Без памяти, без сил,
Нашел свой экипаж, как бешеный вскочил.
„Пошел, Фома, пошел! Скорее, ради бога!“
Пусть там о беглеце идет у них тревога…
Уже две улицы остались позади;
Я дух переводил свободнее в груди,
И только изредка, исполненный боязни,
Погони ожидал, <как будто смертной казни>.
Но все несчастия, нарочно сговорясь,
Пред домом Трефиной меня толкнули в грязь
Без всякой милости, с Фомой, кабриолетом,
Журналом дамских мод и наконец пакетом
Материй и платков mademoiselle Тру-тру.
Как Вакхов гражданин, проснувшись поутру,
Невесело встает с услужливой постели,
Вставал из грязи я без плана и без цели.
Вдруг тонкий голосок воздушною струей
Раздался над моей печальной головой:
„Вы ль это? Боже мой! Какое приключенье!
Не сделалось ли вам удара от паденья?
Вот люди, соль и спирт — они вас укрепят.
Прошу взойти наверх“. Я бросил томный взгляд
В воздушную страну, из коей, мне казалось,
Истек приятный звук. И что же оказалось?
Особа Трефиной, дородна и тучна,
Как на море подчас девятая волна,
Стояла, на балкон небрежно опираясь.
Что было делать мне? Неловко извиняясь
В нечаянном грехе, Фому и фаэтон
Отправил я домой, а сам без оборон
От выдумок судьбы жестокой и нахальной
Повлекся к лестнице парадной машинально.
Чем встретили меня — нетрудно угадать.
Ни сил я не имел, ни время отвечать.
Напала на меня вся дамская эскадра,
Вопросы сыпались, как с Эрзерума ядра.
Бог знает, до чего б их штурм меня довел,
Но тем окончилось, что подали на стол.
Хвала на этот раз уставам просвещенья!
У Трефиной я был избавлен принужденья:
Сказал, что не хочу, — и дело решено.
Сиди, кури табак — хозяйке всё равно.
Стол начат хорошо: особы две крестились,
Потом, как водится, сперва разговорились
О важном, — например, <что будет государь
На этих днях в Москву,> что будто секретарь
Такого-то суда за рубль лишился места,
И замуж за судью идет его невеста.
Потом, на полутон понизя разговор,
Коснулись ближнего. Какой-нибудь узор
Подола Мотовой в прошедшее собранье
Успел приобрести всеобщее вниманье.
Иного с головы размерили до ног,
И всякий говорил, что думал и что мог.
Приезжий между тем господчик из Калуги
Девице Трефиной оказывал услуги:
Брался ей косточку разрезать с мозжечком
И многое шептал, как кажется, о том.
Но, как бы ни было, стол кончился исправно.
Я время проводил ни скучно, ни забавно.
Десерт и кофе шли своею чередой,
И я доволен был обедом и собой.
Но вот что повторю: осмей мое сознанье,
А вера в дьяволов имеет основанье.
Сызмала верить им от нянек я привык
И после опытом ту истину постиг.
Есть дьяволы — никто меня не переспорит,—
Не мы, а семя их кутит, мутит и вздорит.
Они, проклятые, без тела и без лиц,
Влезают и в мужчин, и в женщин, и девиц;
Сидят в них, к пакостям, страстям, порокам клонят
И, раз на шею сев, в открытый гроб загонят.
Старинный Ариман и новый падший дух
Едва ли не живут и давят нас, как мух!
Мне думать хочется, что это не пустое!
А впрочем, вот тому свидетельство живое:
Девица Фольгина по просьбе двух шмелей,
Которые, на шаг не отходя от ней,
Точили на заказ безбожно каламбуры,
Разыгрывала им отрывок увертюры
Из оперы „Калиф“, потом, переходя
От арии к рондо, нежнее соловья,
Томнее горлицы прелестным голосочком
Пропела песню: „Раз весною под кусточком“.
И прочая… Игра и пение вокруг
Сирены Фольгиной собрали знатный круг:
Дивились, хлопали, хвалили, рассуждали
И чудом из певиц торжественно назвали.
Один из сказанных услужливых господ
Приходит вне себя: как обер-франт и мот,
Скользя, подходит к ней с улыбкой чичисбея.
„Позвольте, — говорит, — божественная фея,
Устами смертного коснуться ваших рук!
Меня очаровал непостижимый звук,
Произведенный их летучими перстами“.
С сим словом подлетел и страстными губами
Хотел восторг любви руке ее принесть.
Она, заторопясь наезднику присесть,
Нечаянно ногой за кресла зацепила
И франта на парке́ с собою уронила.
„Ах, ах!“ — как водится, но дело уж не в том:
Закрыв лицо и грудь, горящие стыдом,
Как серна, бросилась в другую половину,
А ловкий петиметр, прелестную картину
Увидя и другим немножко показав,
Поднялся охая, как будто он и прав.
Что было следствием — никто меня не спросит:
Кто нюхает табак, кто лимонаду просит,
Кто сожалеет вслух и очень рад тайком,
Кто обтирается батистовым платком
И далее. Меж тем отец и мать певицы,
Разгладя нехотя наморщенные лицы,
Карету — и с двора. Я тоже замышлял,
Но Сидор Карпович тревогу прокричал:
„Куда, куда и вы?.. Гей, люди, повеленье:
Вот шляпа вам и трость — убрать на сохраненье!
Ни шагу и́з дому, ни капли воли нет.
Вы партию жене составите в пикет,
Бостончик или вист. Два столика готовы —
Прошу не отказать, не будьте так суровы!“
Засел я нехотя, смертельно не любя
Для прихоти других женировать себя.
Проходит час и два — нам дела нет нимало:
Сражаемся и всё!.. Мне даже дурно стало!
Виконт Де ла Клю-Клю, парижский патриот,
Оставя в Франции жену и эшафот,
Чтоб быть учителем у русских самоедов,
По счастью, был тогда из близких мне соседов.
„Vicomte, prenez ma place“, [78] — сказал я обратясь.
„Bon, bon!“ [79] — он отвечал. И я, перекрестясь,
Но только верно уж неявно и наружно,
Пошел из-за стола рассеять миг досужный.
Послушай, что теперь случилося со мной,
И верь, что все дела текут не сатаной!
В исходе одного большого коридора
Вдруг слышится мне смех и шепот разговора.
„Подслушать тайну — есть позорная черта,—
Вдали остановясь, подумал я тогда.—
Быть может, через то я много потеряю…
Но ч<ерт> меня возьми!.. Я точно различаю
Девичьи голоса. Подслушаю секрет…“
Подкрался и взошел в ближайший кабинет.
Вот тайный разговор от слова и до слова: