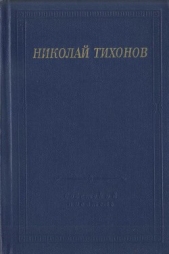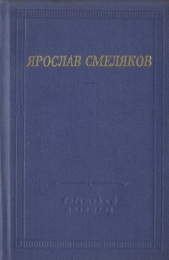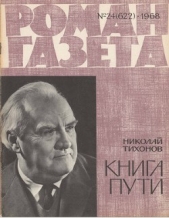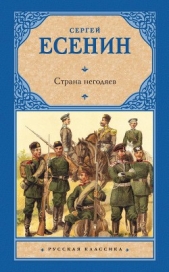Кильский канал — это длинный канал,
Усыпительный, как веронал.
Как будто всё те же стоят берега,
И стража всё та же, всё так же строга.
И поезд всё тот же стучит над водой,
Всё той же завалены барки рудой.
И ржавые тачки ползут как одна,
И только на лицах пестра тишина.
Их надо, как цифры, читать не спеша,
Когда под конвоем проходит душа.
Но я не умею, но я не могу
Читать наугад на таком берегу.
Кильский канал — это длинный канал,
Мучительный, как трибунал.
На мачту, где флага тяжелый багрец,
Насмешливо смотрит фашистский юнец,
Повязка чернеет изломом креста,
И краска загара до злобы густа.
Недвижна канала седая струна,
А ржавые тачки ползут как одна.
Как будто весь воздух иссвистан плетьми,
Молчанье металла — над людьми.
Но вижу: за мостиком барки одной
Стоит человек, отделенный стеной,
Тончайшей стеной, от повязки с крестом,
Он мало заботится, видно, о том.
Кулак он сжимает, шагает вперед,
Рот-фронта салют кораблю отдает
И смотрит, как будто его не узнал,
На тихий, как каторга, Кильский канал.
1935 или 1936
Восток пылал; пылая, сузил
Потертых туч брезент —
Как будто там свивался в узел
Огонь твоих легенд.
Как будто там галлюцинаций
Прозрачная рука
Опять, как описал Гораций,
Ввела в волну быка.
И только звезды, только волны
В его стихах — с тобой,
Чтоб стали бедствия безмолвно
С тех пор твоей судьбой.
Как будто там — в багровой зыби —
Проплыл, тяжел и строг,
Автомобиль, подобный рыбе,
Глотая мел дорог.
Ты в нем украденной лежала,
Грозила неспроста Улыбкой
Джиоконды жалкой
С тускневшего холста.
Как будто там, от гнева розов,
Кружился самолет,
Текли твои, сверкая, слезы
На щек теплевший лед.
Ты мчалась пленницей, добычей,
Валькирией слепой,
И тот же древний профиль бычий
Качался пред тобой.
Как будто там сиреной пела,
Когда в легенд огонь,
Прильнув к подводной лодке телом,
Ныряла от погонь.
Ты пела, зная: океаны —
Такая же тюрьма,
Где ночью бредят капитаны,
Сходящие с ума.
Но я хочу тебя увидеть
Не той, преступной, той,
В бою, в несчастье иль в обиде —
Смертельной красотой.
Не той сиреною бесполой,
Не той, что мир узнал,
Крестьянкой греческой и голой,
Обломком луврских зал.
Но в день любой, пусть в день ненастный,
Увижу берега,
Твой рыжий шлем, платок ли красный
Мелькнет издалека.
Но будешь ты во всем похожа
На женщин наших дел,
Под чьей рукой и парус ожил,
И самолет взлетел.
Чтоб уцелевшие от пыток,
От боен за тебя
Встречали день, как сил избыток,
От боли не скрипя.
1935 или 1936
178–180. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Словно в снег одичалый и талый
Зарываясь и шумно дыша,
Та моторная лодка взлетала,
Равнодушную пену круша.
Во весь рост перед зыбью зеленой
В ней стоял человек, невысок,
Точно в лодку был врезан мореный
Корабельного дуба кусок.
Переносные лампы светили
С теплохода на черной стене,
Пегой лошадью в звоне и в мыле
Эта лодка почудилась мне.
Как с седла одного на другое
Переносит наездника страсть,
Прыгнул лоцман, повис, за тугой он,
За веревочный трап ухватясь.
Он карабкался долго и тяжко
И на палубе стал над водой,
В куртке кожаной, в черной фуражке,
Запыхавшийся, мокрый, седой.
Он смотрел на хрипящую воду,
Отдышался и, сплюнув, пошел,
Бормоча, как старик, про погоду:
«Да, погодка сегодня не шелк».
Мне понравилась эта лохматость,
Полуночный из моря приход
И прыжка его легкая сжатость
Над сумбурною рухлядью вод.
И когда он стоял на штурвале —
Моложавый, как небо, старик,
Те же волны пред ним замирали,
Точно стал он другим в этот миг.
Я тогда был стихами замучен,
Мчался в пенистых строк полосе,
Если б мне бы такая же участь —
Путь вернейший указывать всем,
По словесной по накипи черной
Во весь рост проноситься внизу
И подняться над пеной просторной,
Отдышавшись от рифм и цезур.
1936