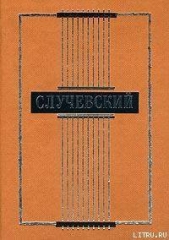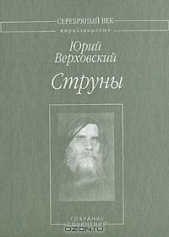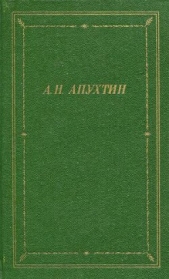«Ты поклянись, – она его просила, —
И верен будь тому, что изречешь,
Что этой песни – в ней большая сила —
Ты никому, как мне, не запоешь.
Не запоешь, когда ко мне на смену
Придет другая с новой красотой,
И я утрачу прелести и цену
Перед твоей окованной мечтой.
Другие песни пой, коль запоются,
Кому, и где, и как – мне вс равно.
Но .лишь бы этой песне вновь проснуться
И повториться не было дано.
С меня писал ты, я тебя ласкала,
Я, я низала нити чудных снов,
Я с нею вместе чувством трепетала...
Спускала с плеч последний свой покров.
Та песнь моя! вся, вся без исключенья...»
Он клятву дал... и наконец запел,
Когда в час смерти, в облике виденья
Ее он вновь пришедшую узрел.
Свершивши раннюю молитву,
Пока проснется генерал,
Старик-лезгин кряхтит и чистит
Полуаршинный свой кинжал!
На лезвии, в сияньи солнца,
В наседках букв – Корана стих;
Старик как будто видит что-то
В клинке, сквозь пальцы рук своих...
Из-под папах в кустах – винтовки
По русским целятся войскам...
Вон дымки выстрелов, вон пушки,
Вон генералы, вон – имам!..
Дымится дуло пистолета,
Лезгин сует его в кабур,
Глядит: на этот раз удача —
Упал и корчится гяур...
Спешат в аул... Победа, радость!
Там блеск чарующих очей,
Там – вин холодные кувшины,
Там песни старых узденей...
Кинжал дрожит... Другие виды...
И длинный ряд живых картин...
Перед лицом воспоминаний
Расхорохорился лезгин!
Забыл, что больше нет Кавказа,
Нет тех времен, нет тех людей!
Явились в жизнь ключи Боржома;
Есть нефть, но нет жрецов огней!
Клокочет жизнь неудержимо,
Бушует сердце старика...
Но вдруг – звонок, – мечты исчезли
От генеральского звонка!
Кинжал в ножнах. Собравши платье,
Лезгин торопится служить
И к генеральской папироске
Подносит спичку закурить!
И раут был блестящ! Вся зала
Сияла множеством огней...
Владыкам бирж и капитала
И представителям властей —
Повсюду лживые приветы,
Пожатья рук, любезность слов,
Недобрых взглядов рикошеты,
И блеск эмалей орденов...
А с женских плеч в лучах пылали,
Стремясь былое наверстать,
Алмазы, что в земле лежали
И утомились света ждать...
Казалось мне – певцов эстрада,
В цветах и искрах хрусталя,
Плыла, как некая громада,
Как яркий призрак корабля!
И к этим людям всякой власти,
Будя их мысли и сердца,
Сквозь листья пальм, как бы сквозь
снасти,
Благовестила песнь певца.
Звучит мечтательная лира,
С ней заодно звучат слова,
И блещет свет иного мира
Сквозь их живые кружева.
О! Сколько было тут химеры,
Как он кичился – нищ и наг, —
Как перерос свои размеры
Пустых людей ареопаг.
А пестун вечного значенья,
Глашатай чувства всех времен,
Певец, – ведь он для развлеченья
За деньги петь здесь приглашен!
Они ему рукоплескали,
И титулованный мирок
Сплеча оценивал скрижали,
Которых и прочесть не мог...
Тут вечное ничтожным стало,
Атланта с ног сшибал пигмей...
Корабль! Корабль! Отдай причала
И уплывай – скорей, скорей...
А! Вот он наконец, дворец успокоенья,
Хранитель царственных могил,
Где под двойной броней гранита и сомненья
Лежат без прав и даже без движенья
Властители народных сил.
Какая высота! Крепки и остры своды,
Под ними страшно простоять,
И если из гробов в короткий час свободы
Встают покойники на призывы природы
И тянутся, – им есть где погулять.
И сыро и свежо. Темны углы собора,
По ним и чернь годов, и копоть залегла,
А в куполе вверху, свободны от надзора,
Сошлись на долгий спор, на подпись приговор
И шепчутся прошедшие дела.
За перспективою мельчая, умаляясь,
Стоят ряды готических столбов;
В цветные стекла радугой врываясь,
Свет вечера играет, расстилаясь
Дорожками узорчатых ковров.
Одеты мрамором, в чехлах, под вензелями,
Гробницы королей прижались к алтарю,
Лампады теплятся спокойными огнями,
Храм населяется вечерними тенями,
И сонный день приветствует зарю.
Что, если бы теперь, по воле провиденья,
Из-под гранита проросли
Прошедшие дела, как странные растенья,
И распустили бы во имя сожаленья
Свои завитые стебли?
Что, если бы теперь каменья засквозили
Зевнули рты готических гробниц,
И мертвецов коронных обнажили,
И тихим светом осветили
Черты, как смысл, отживших лиц?
Вы жили, короли, вас Франция питала,
Чудовищная мать чудовищным сосцом,
Веками тужилась, все силы надрывала,
От вас отплаты, службы ожидала —
Вы отплатили каждый мертвецом.
Скажите, короли: под мехом багряницы
Пришлось ли вам хоть раз когда-нибудь
На площади взволнованной столицы
Средь торжества, с парадной колесницы
По-человечески вздохнуть?
Пришлось ли вам хоть в шутку усомниться
В себе самом, смотря на пышный двор,
Могли ли вы слезой не прослезиться,
Могли ли сердцу не позволить биться,
Когда рука черкала приговор?
Был светлый день, – оков перегоревших
Народ не снес, о камни перебил
И трупы королей своих окоченевших,
В парчах и в золоте истлевших,
Зубами выгрыз из могил.
Был мрачный день, – народ остановили,
Сорвали шапки с бешеных голов,
Систематически и мерно придушили,
А трупы королей собрали и сложили
В большую кучу в склеп отцов.
И я бы мог, спустившись в склеп холодный,
Порыться в куче тех костей
И брать горстями прах негодный,
Как пыль дорог, как пыль дорог – свободнный,
Давно отживших королей.
И в этой-то пыли, и в этом сером прахе
Смешав Людовиков с Францисками в одно,
Лежат династии в молчании и страхе
Под вечным топором, на бесконечной плахе,
И безнадежно и давно.
И всякий рвет и рубит то, что хочет,
Своим ножом от королевских тел;
Король-мертвец в ответ не забормочет,
Когда потомок громко захохочет
Над пустотой происшедших дел.
Темно. Очерчены неясными чертами,
Белеют остовы готических гробниц,
Лампады теплятся спокойными огнями,
А у меня скользят перед глазами
Немые образы без лиц...