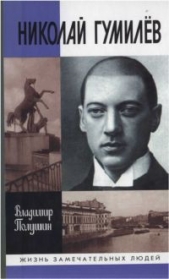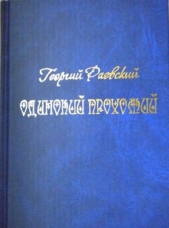Океан времени

Океан времени читать книгу онлайн
В книгу включены стихотворения из сборника «Град» (Пб., 1921 г.), «В дыму» (Берлин, 1926), «Жизнь и смерть» (Париж, 1961), автобиографическая поэма «Дневник в стихах», а также цикл мемуарных эссе о писателях-современниках «Петербургские воспоминания».
Примечание. Оцифровщик благодарен Алексею Соболеву за подаренную книгу Н. Оцупа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сологуб до такой степени не обольщал себя ничем и так сурово относился к миру, что давно уже привык спасаться в миры далекие, воображаемые. Без этого убежища мечты поэт вряд ли сумел бы перенести смерть жены своей, А. Н. Чеботаревской, которую горячо любил. Говорят, что его поэзия, заклинавшая боль утраты, очень значительна. Но мы ничего достоверного не знаем об этом: ведь в нынешней России Сологуба не любят и стихов его там никто не искал и не просил. Еще вероятнее, однако, что и сам Сологуб не хотел печататься в советских изданиях.
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (К 50-летию со дня рождения) [81]
— Что победило в России? Не будем ломать голову над этим. Позвольте лучше сымпровизировать миф.
Сначала поднялось чувство — Керенский, и бездна прогрохотала: нет.
Потом воля — Корнилов, и бездна прогрохотала: нет. Наконец поднялось нечто третье — сила жизни, и бездна прогрохотала: да!
Так как под силой жизни Андрей Белый разумеет большевиков, аудитория Дома Искусств безмолвствует. Для присутствующих в зале коммунистов образы знаменитого символиста слишком темны и сложны, для некоммунистов — чужды.
Председатель объявляет перерыв.
Белый искательно устремляется к Блоку.
— Ну как, Саша, очень плохо?
Блок улыбается добродушно и смущенно:
— Да нет же, совсем не плохо.
Рядом с чуть-чуть деревянным, спокойным и отсутствующим лицом Блока еще резче выступает нервное, страстно-оживленное и беспокойно-пытливое лицо Белого. Как не выделить из тысячи фигуру лектора с растрепанными седеющими волосами вокруг плеши, прикрытой черной ермолкой, с разлетающимися фалдами сюртука и с широко отставленными от туловища руками!
Белый держится, наклонясь вперед, под углом, как будто сейчас побежит на собеседника.
Бели бы скульптор хотел создать аллегорическую фигуру под названием «Беспокойство», он мог бы, ничего не прибавляя, лепить Белого.
Во всем, в каждом жесте, в интонациях, в выборе слов, в деятельности писательской и научной, во всем решительно Белый был всегда и сейчас остался беспокойнейшим из существ.
«Святое беспокойство», — говорил Гете.
Беспокойство болезненное — можно сказать о Белом.
Вчитываясь в то, что создано этим блестящим и плодовитым писателем, кажется, нетрудно понять, в чем его несчастье.
По Белому, всякое человеческое «я» заключает в себе все многообразие земной жизни. Мудрено ли, что собственное «я», сложное и очень разностороннее, заслонило от Белого все живущее.
«Есть в развитии такой миг, когда Я сознает себя господином мира… Я, я, я, я, я, я, я, я, прогудело по мощным вселенным» («Записки чудака»).
Белый никогда никого не слушает, он удваивает свое «я», созерцает и слушает в себе самом и себя, и собеседника, и толпу, и целый народ.
Все эти особенности полугениального «чудака» не мешают ему быть одним из самых значительных писателей нашего времени.
Главная сила Белого, мне кажется, в том, что каждое его слово и каждый жест ежесекундно напоминают о «бездонном провале в вечность».
Все у него на сквозняке, все угрожает рухнуть куда-то. По-своему, Белый громче кого бы то ни было кричит «Помни о смерти».
Если у читателя хватит терпения добраться хотя бы до одной из «Симфоний», или «Серебряного голубя», или даже «Москвы под ударом» — у него начинает кружиться голова.
Самые устойчивые предметы, самые тяжеловесные понятия, подхваченные каким-то вихрем, начинают кружиться в пространстве.
Среди современников Белого мало кто, говоря о нем, не обмолвится: «чудак». Скажет и не это: «фальшивый человек», «фигляр» и еще более неприятные клички нередко соседствуют с именем Белого.
Но почти каждый из его ругателей неизменно добавляет: «А все-таки это писатель почти гениальный».
Строгий и сухой на похвалу Гумилев говорил о Белом: «Этому писателю дан гений, но гений свой он умудрился погубить».
Вдохновенные писания Белого в самом деле — свидетельство какой-то катастрофы; несмотря на все свои достоинства, они всегда поражают каким-либо изъяном.
Блестящие, но математически отвлеченные схемы, замечательная, но утомительная игра слов и созвучий, редкое по силе чувство, неустойчивости и относительности всего на свете — вот приблизительно главные слагаемые сочинений этого писателя.
В сумме получается некая очень значительная дробь, но не целое число.
Какого-то слагаемого Белому не хватает.
Какого?
Вероятнее всего: внимания к реальности.
Часто «презренным» бытовикам удается уловить и запечатлеть простейшее дыхание жизни.
Белому это удается очень редко. Только говоря о России, он почти всегда находит слова, «ударяющие по сердцам».
«Удивительна для Белого простота этих строчек. Обыкновенно у него все сложно и вычурно. Играющий на рояли — яркает грацией, яркой градацией; сумасшествие для Белого — «c ума сшествие», «нисхождение голубя Я на безумное».
Но приводить примеры, подобные этим, значило бы выдать почти всю прозу этого сложного и подчас утомительного писателя.
Мучительно было встречаться с Белым в Берлине. По многим причинам он был еще растеряннее, чем обычно. Чтобы заглушить очень сложные и мучительные огорчения и сомнения, Белый пустился плясать фокстроты. Причины этих его увлечений танцами были многим понятны, и никому не приходило бы в голову смеяться, если бы он не пытался объяснить свое «веселье» какими-то высшими соображениями.
По словам Блока, Вячеслав Иванов, чтобы повернуться на стуле, должен был обязательно как-то по-особому объяснить свое движение.
О Белом сказать то же самое было бы еще справедливее. В этом мне пришлось удостовериться в Берлине.
В двух залах танцуют. За грохотом джазбанда едва слышь слова собеседника.
Мелькают лица солидных толстяков, оттанцовывающих фокстрот, проносятся фигуры женщин: типичные берлинские фигуры могучих Амалий и Марихен.
Внезапно в толпу танцующих из соседнего маленького зала входит, почти вбегает странный человек с лицом безумным и вдохновенным. Его длинные полуседые волосы вьются вокруг большой лысины, он разгорячен и бежит к буфету, наклоняясь вперед всем телом и головой и улыбаясь своей медовой, чуть-чуть сумасшедшей улыбкой.
Не успевает он пристроиться к буфетной стойке, как рядом с ним появляются две Марихен. Они хватают его с двух сторон за руки и кричат:
— Herr Professor, Herr Professor, aber kommen sie doch tanzen… [82]
Белый (это он), не успевая освежиться лимонадом, вновь бежит танцевать.
По дороге он замечает наш столик и, на минуту оставив Марихен, присаживается к нам.
— Удивляетесь, что я танцую? — спрашивает он.
— Да нет, нисколько, это вполне естественно.
— Может быть, но я полюбил эти танцы, потому что в них дикий зов древности, разрывы времен, вы понимаете?
Ничего у Белого не просто. В самом деле, и на стуле не может повернуться просто так, чтобы повернуться. Непременно по самым высоким соображениям.
Белого можно бы назвать олицетворением переходной эпохи. Он успевает всего коснуться, но не успевает быть хозяином одной какой-либо идеи, одного чувства.
Все мелькает перед ним и в нем. Он излишком многих; понимает, слишком многому сочувствует: всюду умеет оставить частицу своего «я», но собрать в одно целое разбросанные и разрозненные частицы этого «я» ему не удается.