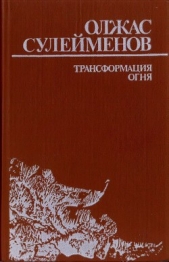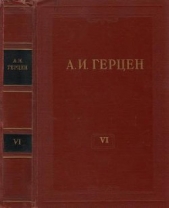I
Дулат.
О хан, войско разленилось в городах
и погрязло в разврате и восхищении.
Ишпака, ты заставил волков жить
мирно в овчарнях, и сытые волки
стали подражать повадкам травоядных.
Они едят хлеб и срывают плоды
с деревьев. Они уже копаются в
земле и начинают сеять просо.
Жнецы превращаются в пахарей.
Ишпака, нам пора,
наши кости ослабли от сладостей,
наше мясо размякло от ласк,
наши души померкли от радости,
дай нам пищу собак,
брось нас в горла ущелий,
много стран терпеливо тоскуют
по нашим рукам.
Они ждут.
Наши кони давно не топтали посевов,
поведи нас туда,
где лучи заиграют на лезвиях,
там полезней трава для коней,
в ней избыток магнезии.
Ждет свободная Ливия,
ждут эфиопы Напаты,
серебро накопилось в Сирии
для платы,
фригийские жены
жирные, как акриды [55],
готовые лечь на блюдо,
бедра и груди их,
как лица блудниц, открыты.
Если ты спросишь меня —
выбор твой не одобрен.
мы исходили круг
и не нашли Того,
этот путь утомляет
и никуда не ведет…
Что хотел сказать Дулат?
О походе в страну Ашшура скифские
писцы писали: «Ишпака
из Ашшура 8970 юношей увел,
15323 юных пленницы увел. Некоторых
убил, других живыми увел.
16529 коров увел и одного быка увел…»
Что хотел сказать неизвестный писец?
II
…Вот Ишпака уже шел через оливковую
рощу, он вернулся к могиле Перса…
— Уйди, Дулат, оставь.
Нас будет двое —
я разбужу персидского героя.
Я вижу, он стоит
в тени олив, светлея.
Совет мне нужен,
выходи смелее,
восстань, великий дух,
войди в мой слух,
я буду внемлить, Перс,
благоговея.
III
— Потревожен, восстану…
Моря переходят в пустыни…
Только с камня сойди,
сядь в тени…
Горы падают в пропасть…
Чего тебе надо?
И степи торчком восстают…
Я борюсь с дремотой.
— Погоди, аруах! Я не знаю,
с чего; начать…
Я хожу по притонам и
пью вино ярости.
Мне жрецы объявили войну
тишины.
Я учился читать их молчанье.
Ты не слышал — вчера хохотала
площадь!
И потом замолчала.
Оправдай меня, Перс!..
Они хохотали, глумясь
над природой вещей.
Они часто, выходят, жрецы,
на помост,
и руками, ногами, лицом и
всем телом, однако,
изображают буквы письма ассирийского
или иного,
но все, кто приходит на площадь
смеяться, читают движенья
жреца, как таблицу писца,
одобряя.
А я приходил и стоял, укрывая
лицо, и качался с толпой,
и, казалось, сливался с телами,
и душа моя сплавилась с грязными
душами их.
Ты, наварное, чуешь, о Дух,
от души моей потом разит
ассирийским.
Извивается жрец, на помосте
мне видится море,
луна над волной
и лицо финикийца тонущего…
То коня он опишет пальцами
и глазами,
то коня и себя на нем,
молодую траву
под конем ,
то неслышно поет
колебаньями рук
и ногами.
Но вот вчера я понял,
что хохот мне мешает,
врывается, грызет мое сознанье,
он становился громче
и ужасней,
обрушивался хохот
на меня.
Я понял вдруг:
Жрец притворялся мной.
…Актер на мерине
изображал
глупца
и песню строил голосом
скопца.
Я прямо говорю—
я за искусство.
Но разве можно искажать
ишкуза?..
…Вообразил актер,
что наказал
его ишкуз.
Хромал несчастный жрец
и зрителям свой иссеченный зад,
спустив штаны,
показывал,
скотина.
И снова ржали люди над
вождем,
жрец тот был в одеянии моем.
А я стоял в толпе и был, как червь,
голый.
Дух.
А позже жрец изображал
свой труп,
и это ему лучше удавалось…
Я знаю все.
Жрец не был виноват,
он рисовал классическую битву
Ашшура с вавилонским
Бел-Мардуком.
Но ты не понял сказки,
и Дулат
пронзил его стрелой из
костяного лука.
И жрец его не понял
и упал,
забился на помосте,
хохотала
толпа, все понимая
из того,
что он изображал в предсмертных
муках.
Казалось ей — он рисовал
Мардука,
ужаленного молнией Ашшуры,
и замер он в веселой позе
Ану…
Зачем ты рассказал мне,
Ишпака,
то, что тебя уже не волновало?
Что привело тебя
к чужому аруаху?
Ты хочешь слушать откровенья?
Слушай.
IV
Дух.
Пес норовит ухватить
указующий
перст.
Перси грызет он,
дающие молоко,
пес этот — перс,
и запомнить его легко.
Если увидишь, старайся,
чтоб он не забыл,
что ты барс вдохновенный,
а он пес.
— Я тебя не понимаю, перс!
— Продолжаю тогда.
Если двуногий смотрит,
когда ты на него не смотришь,
знай — у него болит голова.
Если, собрав толпу на базаре,
кричит он громче твоих глашатаев
и тычет в стороны пальцами
с черной землей под ногтями,
знай — у него болит голова,
ему хочется лечь.
А голову лечит только меч.
Руби ему череп до самых плеч.
Это мои слова.
— Аруах, пронзи меня тупым — я ничего
не понимаю.
— Когда молчат живые,
говорят Духи.
Ты всегда понимал Одно,
а сегодня твое Одно
затерялось в полчищах Многого,
не отрицай толпу во имя Одного,
и станешь духом,
и поймешь все,
ибо все есть Дух.
И поймешь персов, каковыми
вы называете весь мир, кроме себя.
У персов есть и мудрость и злонравие,
начала сочинений и венцы.
У вас же есть Закон.
У парсов есть жемчужина души.
У вас же — панцирь.
У персов дно и бездна высоты,
у вас губительное плоскогорье.
Вот что такое перс
и что такое — ты.
Я духом стал давно,
еще при жизни…
V
Д у х .
Ты это хотел узнать? Узнай.
Не могу похвалиться
ни знатностью рода,
ни прочим,
я доил кобылиц,
тронов царских никто не пророчил,
но случилось однажды
(я думал, что это беда),
налетели,
связали
и привезли сюда.
Это было в апреле,
два солнца стояло на небе,
на базаре — жара,
у хозяев торговля не шла.
Ты прости, Ишпака,
я пока говорю не по теме,
тем не менее, так —
меня продали, как осла.
Наковали на ноги путы.
Как знак алиф.
Я полжизни измерил,
но верил в судьбу свою, верил,
ибо видел на небе однажды
я символ Венеры —
два сияющих круга
над купами пыльных олив.
Зреть Венеру достоин каждый,
но знак ее
не доступен любым,
он прекрасней
ночной звезды,
если вещь непонятна,
чтобы познать ее,
должен сущность ее отвлеченную
ведать
ты,
…Я возделывал почву,
старался работать азартно,
рыл арыки,
валился в солому
и видел во сне —
восходили два солнца
на медленном небе базарном.
И однажды —
мы в город пошли,
дело было к весне.
VI
— Ты что-нибудь понял, Ишпака?
— Я понял, что ты с хозяином пошел в
город. Не в Ниневию?
— В Харран. Но разве это важно!
— В Харран мы ворвались в разлив
Тигра. Наши кони шли по брюха
в воде. И дома никак не хотели
гореть…
— Мой хозяин на празднике Шамаша
выпил сикеры.
Пропил все, что возможно, —
осла и мешок ячменя,
продал бороду красную
и на восходе Венеры
пьяной даме за перстень
отчаянно отдал меня.
Снял рванье с моих плеч,
с сожалением пнул
на прощанье.
Мы расстались, как люди,
я помню его до сих пор…
И за дамой пошел,
красоты она необычайной,
ай, как кожа
сквозь ткани мерцала!
…Мы входим во двор.
На траве у бассейна
джейран одинокий
пасется.
В том бассейне
веселые люди меня искупали,
и маслами натерли,
и спать уложили под пальмой…
Я уснул и увидел во сне
И очнулся,
и солнца не гасли.
А солнца — в ресницах.
Я подумал — ужасно!
Ну, надо ж такому присниться!
…До утра просыпаться
глаза ее не давали,
до утра мои губы
ланиты ее целовали.
Так лежали рыбины
на илистом дне озер.
Так врывались в глубины ее соколиные очи.-
И сияли рубины улыбок,
скрывая позор
обнаженного сна
от внимания солнечной ночи.
Как молчала она,
отдаваясь!—
сводило мослы.
Попугаи на пальме кричали,
встречая два солнца.
Это были не дни
и не годы —
дрожащие сны,
Ишпака, тебе снилось —
джейран одинокий пасется?
VII
— Продолжай!
— Расскажу про Шамхат.
Я бывал в ее сладостных думах:
«Ах, уйти бы в набег
и вернуться с победой в хурджумах!
Привести на аркане
раскосого дикаря
и ночами,
во сне,
превращать его страстью
в царя.
Скольких жалких рабов
она в гордых мужей
превращала,
возвращала им все, что потеряно,
сны возвращала.
О, ее красота отдавалась
сутулым и старым!
Только данью она не была,
красота,
только — даром!
В этом знойном саду
красота нас обоих ждала,
а вернее —
явилась она!
Мне — в сверкающем царском обличье,
тебе — в образе девки,
и каждому радость дала.
Тебе — радость раба,
мне — тревожное счастье величья.
Не гневись, согласись,
что любовь —
наслаждение нищих,
их свобода она и пища.
Был я эльфом презренным,
стал альпом великим,
достойным
принять смерть от ножа своего,
я прошел оба круга.
Завидуй».
— Грязный аруах!.. Дулат, где ты,
проклятый палач!..
VIII
Дух.
Позавидуешь персу.
Могилу твою не узнают —
покровителей мира
в забытых местах зарывают,
разровняют, прогонят стадо,
травой засеют,
чтоб никто не узнал,
не посмел.
— Аруах!..
— Не посмеют.
И никто
не придет,
не навалится плачем на камень,
не коснется гранита
палящим бедром,
ногами
и губами горькими,
мокрыми, словно перец.
Не шепнет твое имя,
щекою шершавой, как персик,
не согреет слезы
и не вскрикнет…
— Исчадие перса!..
— И не стиснет молочные железы,
ассирийские перси!
Предрекаю тебе, Ишпака,—
позавидуешь персу…
. . . . . . . . .
Ты не понял движений жреца.
Моих знаков не понял.
В тебе знание символов скифских,
ты их отвергаешь.
Тебе кажется странным —
мир чуждыми знаками
полон,
и ты, покоритель,
бессилен их тронуть руками!
Но ты ведь — ничтожество,
ты покоряешь вещи.
Их вечная сущность, увы,
за пределами силы.
Тебе не понять, почему
знак крови багровой —
синий?
Тебе непонятно,
что сам ты —
какого-то чуда
символ.
И тот, кто тебя узнает,
уверен — познает чудо.
IX
Ты шуток не понимаешь,
а хохот —
предвиденье шуток.
Спасибо,
недаром проснулся,
отдал тебе сон и два солнца.
Заткни все отверстия тела,
увидишь, как луч окунулся
в бассейн,
и трава не гнется,
а между стволов травиных
джейран одинокий пасется…
Но чем он питается, если
трава достигает солнца?..