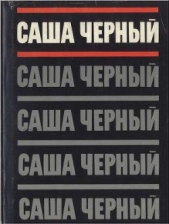Художник в парусиновых штанах,
Однажды сев случайно на палитру,
Вскочил и заметался впопыхах:
«Где скипидар?! Давай, — скорее вытру!»
Но рассмотревши радужный каскад
Он в трансе творческой интуитивной дрожи
Из парусины вырезал квадрат
И… учредил салон «Ослиной Кожи».
<1922>
Книжный клоп, давясь от злобы,
Раз устроил мне скандал:
«Ненавидеть — очень скверно!
Кто не любит, — тот шакал!
Я тебя не утверждаю!
Ты ничтожный моветон!
Со страниц литературы
Убирайся к черту вон!»
Пеплом голову посыпав,
Побледнел я, как яйцо,
Проглотил семь ложек брому
И закрыл плащом лицо.
Честь и слава — все погибло!
Волчий паспорт навсегда…
Ах, зачем я был злодеем
Без любви и без стыда!
Но в окно вспорхнула Муза
И шепнула: Лазарь, встань!
Прокурор твой слеп и жалок,
Как протухшая тарань…
Кто не глух, тот сам расслышит,
Сам расслышит вновь и вновь,
Что под ненавистью дышит
Оскорбленная любовь.
<1922>
Я пришел к художнику Миноге —
Он лежал на низенькой тахте
И, задравши вверх босые ноги,
Что-то мазал кистью на холсте.
Испугавшись, я спросил смущенно:
«Что с тобой, maestro? Болен? Пьян?»
Но Минога гаркнул раздраженно,
Гениально сплюнув на диван:
— Обыватель с заячьей душою!
Я открыл в искусстве новый путь,—
Я теперь пишу босой ногою…
Все, что было, — пошлость, ложь и муть.
— Футуризм стал ясен всем прохожим.
Дальше было некуда леветь…
Я нашел! — и он, привстав над ложем,
Ногу с кистью опустил, как плеть.
Подстеливши на пол покрывало,
Я колено робко преклонил
И, косясь на лоб микрокефала,
Умиленным шепотом спросил:
«О Минога, друг мой, неужели? —
Я себя ударил гулко в грудь,—
Но, увы, чрез две иль три недели
Не состарится ль опять твой новый путь?»
И Минога тоном погребальным
Пробурчал, вздыхая, как медведь:
«Н-да-с… Извольте быть тут гениальным…
Как же, к черту, дальше мне леветь?!»
<1922>
Говорите ль вы о Шелли, иль о ценах на дрова,
У меня, как в карусели, томно никнет голова,
И под смокингом налево жжет такой глухой тоской,
Словно вы мне сжали сердце теплой матовой рукой…
Я застенчив, как мимоза, осторожен, как газель,
И намека, в скромной позе, жду уж целых пять недель.
Ошибиться так нетрудно, — черт вас, женщин, разберет,
И глаза невольно тухнут, стынут пальцы, вянет рот.
Но влачится час за часом, мутный голод все острей, —
Так сто лет еще без мяса настоишься у дверей.
Я нашел такое средство — больше ждать я не хочу:
Нынче в семь, звеня браслетом, эти строки вам вручу…
Ваши пальцы будут эхом, если вздрогнут, и листок
Забелеет в рысьем мехе у упругих ваших ног,—
Я богат, как двадцать Крезов, я блажен, как царь Давид,
Я прощу всем рецензентам сорок тысяч их обид!
Если ж с миною кассирши вы решитесь молча встать —
И вернете эти вирши с равнодушным баллом «пять»,—
Я шутил! Шутил — и только, отвергаю сладкий плен…
Ведь фантазия поэта, как испанский гобелен!
Пафос мой мгновенно скиснет, — а стихи… пошлю в журнал,
Где наборщик их оттиснет под статьею «Наш развал»,
Почтальон через неделю принесет мне гонорар
И напьюсь я, как под праздник напивается швейцар!..
<1922>
Безглазые глаза надменных дураков,
Куриный кодекс модных предрассудков,
Рычание озлобленных ублюдков
И наглый лязг очередных оков…
А рядом, словно окна в синий мир,
Сверкают факелы безумного Искусства:
Сияет правда, пламенеет чувство,
И мысль справляет утонченный пир.
Любой пигмей, слепой, бескрылый крот,
Вползает к Аполлону, как в пивную, —
Нагнет, икая, голову тупую
И сладостный нектар, как пиво, пьет.
Изучен Дант до неоконченной строфы,
Кишат концерты толпами прохожих,
Бездарно и безрадостно похожих,
Как несгораемые тусклые шкафы…
Вы, гении, живущие в веках,
Чьи имена наборщик знает каждый,
Заложники бессмертной вечной жажды,
Скопившие всю боль в своих сердцах!
Вы все — единой Дон-Кихотской расы —
И ваши дерзкие, святые голоса
Все также тщетно рвутся в небеса
И вновь, как встарь, вам рукоплещут папуасы…
<1922>