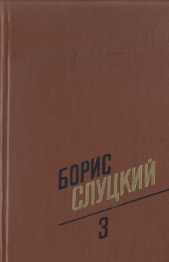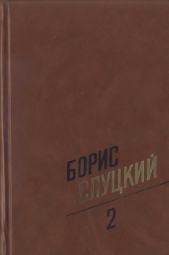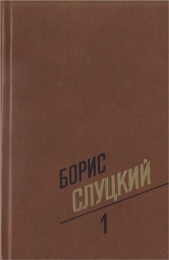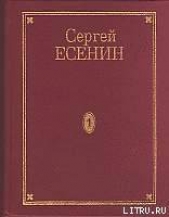Если вас когда-нибудь били ногами —
вы не забудете, как ими бьют:
выдует навсегда сквозняками
все мировое тепло и уют.
Вам недостанет ни хватки, ни сметки,
если вы видели из-под руки
те кожимитовые подметки
или подкованные каблуки.
Путь ваш дальнейший ни был каков,
от обувного не скрыться вам гнева —
тяжеловесный полет каблуков
не улетает с вашего неба.
Мера наказания пророку
мере неприятия равна,
если просто он болтал без проку
и никто не понял ни хрена.
Если втуне факты и примеры,
ссылки и цитаты пропадут,
высшую пророк получит меру:
все, пожав плечами, прочь пойдут.
Остальное, в том числе и мука,
означает: победил пророк,
замолчать его никто не смог,
и усвоена его наука.
И печаль — это форма свободы.
Предпочел ведь еще Огарев
стон, а не торжествующий рев,
и элегию вместо оды.
Право плача,
немногое знача
для обидчика —
можно и дать, —
в то же время большая удача
для того, кому нужно рыдать.
И какие там ветры ни дуют,
им не преодолеть рубежи
в темный угол,
где молча тоскуют,
и в чулан,
где рыдают в тиши.
С юным Пушкиным все в полной ясности,
и не существует опасности,
что припишут ему неприязнь
к мятежу или богобоязнь.
Поздний Пушкин дает основания
и для кривотолкования.
Кое в чем — изменился действительно.
Кое в чем — только дал предлог.
Так что даже не удивительно,
что втираются царь и бог
и что вежливые златоусты
норовят понавешать икон
в том углу, где было так пусто,
где стоял лишь один Аполлон.
Поэты похожи на поэтов.
Все. Кроме самых лучших.
Прекрасный Надсон,
снедаемый чахоткой благородной,
овеянный златоволосым ветром, —
похож.
Некрасов, плешивый,
снедаемый неблагородной хворью,
похож не на поэта — на дьячка.
В День Блока,
когда закончились «Двенадцать»,
и гул умолк,
и музыка заглохла,
и в дневнике писалось:
«Сегодня я — гений»,—
в этот день
он сразу постарел.
Лицо — втянулось.
Глаза — померкли.
Плечи ссутулились.
Блок перестал напоминать поэта.
Позже усердный чтец поэтов
(всех, кроме самых лучших),
скульптор
облагораживает им фигуры,
спины разгибает,
плечи рассутуливает
и придает им вид поэтов
(всех. Кроме самых лучших).
Все примазываются к Ренессансу.
Общий дедушка всех — Гомер.
Не желая с этим расстаться,
допускают обвес и обмер.
Пушкин всех веселит и радует,
обнадеживает, сулит.
Даже тех, кто его обкрадывает,
тоже радует и веселит.
Как пекутся о генеалогии,
о ее злаченых дарах
и мозги совершенно отлогие,
и любой отпетый дурак.
Героические речи
произносят все травести.
Но не хочет никто от Греча,
от Булгарина род вести.
Похож был на Есенина. Красивый.
С загадочною русскою душой
и «с небольшой ухватистою силой»
(Есенин о себе). Точней — с большой.
Нечаев… Прилепили к нему «щину».
В истории лишили всяких прав.
А он не верил в сельскую общину.
А верил в силу. Оказалось — прав.
— Он был жесток.
— Да, был жесток. Как все.
— Он убивал.
— Не так, как все. Единожды.
Росток травы, возросший при шоссе,
добру колес не доверять был вынужден.
Что этот придорожный столбик знал!
Какой пример он показал потомкам!
Не будем зверствовать над ним, жестоким!
Давайте отведем ему аннал —
Нечаеву… В вине кровавом том —
как пенисто оно и как игристо —
не бакунисты, даже не лавристы,
нечаевцы задали тон.
Задали тон в кровавой той вине,
не умывавшей в холодочке руки,
не уступавшей никакой войне
по цифрам смерти и по мерам муки.
В каких они участвовали дивах,
как нарушали всякий протокол!
Но вскоре на стыдливых и правдивых
нечаевцев
произошел раскол.
Стыдливые нечаевцы не чаяли,
как с помощью брошюр или статей
отмежеваться вовсе от Нечаева.
Им ни к чему Нечаев был, Сергей.
Правдивейшим нечаевцем из всех
был некий прокурор, чудак, калека,
который подсудимых звал: коллега —
и двое (или трое) из коллег.